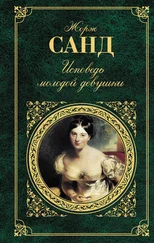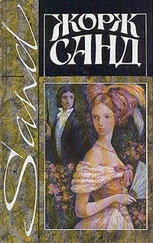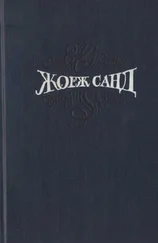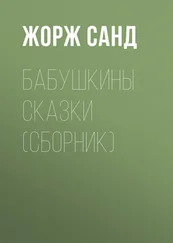Отныне Бенедикта ждало ужасное существование: окруженный врагами, он будет посмешищем для всей округи, каждый день ему придется выслушивать дерзкие и жестокие насмешки, и он не сможет ответить на них, не желая унижаться. Каждый день станет воспоминанием о печальном итоге его любви, и надо будет свыкнуться с мыслью, что надежда покинула его навсегда.
Однако любовь к жизни, дающая тому, кто тонет в морской пучине, сверхъестественную силу, на миг внушила Бенедикту необходимость поиска путей спасения. Он делал невероятные усилия, чтобы найти цель, хоть какое-нибудь тщеславное стремление, хоть какой-нибудь повод для очарования, но напрасно: душа его отказывалась признавать иную страсть, кроме любви. И впрямь, разве в двадцать лет какая-либо страсть представляется человеку более достойной, чем любовь? Все было тускло и бесцветно для него теперь по сравнению с тем безумным и скоротечным мигом, вознесшим его над землей. То, что еще месяц назад казалось недосягаемо высоким для его чаяний и надежд, стало ныне недостойным его желаний, на свете не было ничего, кроме этой любви, кроме этого счастья, кроме этой женщины.
Когда Бенедикт вконец обессилел, его охватило страшное отвращение к жизни и он решил покончить с ней. Осмотрев пистолеты, он направился к воротам парка, намереваясь исполнить свой замысел, но не пожелал омрачать празднество, отблески которого еще пробивались сквозь листву.
Прежде чем расстаться с жизнью, он захотел испить до дна чашу горечи, поэтому развернулся и, пробравшись среди деревьев, очутился у высоких стен замка, скрывавших от него Валентину. Некоторое время он наудачу брел вдоль стены. Все было безмолвно и печально в этом огромном здании, все слуги ушли на праздник. Гости уже давно разъехались. До слуха Бенедикта донесся лишь взволнованный голос старухи маркизы. Маркиза занимала покои на нижнем этаже, окно ее спальни было приоткрыто. Бенедикт приблизился и, уловив отрывок разговора, тут же изменил свое намерение лишить себя жизни.
– Поверьте мне, мадам, – говорила маркиза, – Валентина серьезно больна, и нам следовало бы разъяснить это господину де Лансаку.
– О боже мой, мадам! – раздался голос, и Бенедикт догадался, что это говорит графиня, – у вас прямо страсть вмешиваться не в свои дела! А я считаю, что любое вмешательство, мое ли, ваше ли, в подобных обстоятельствах более чем неуместно.
– Мадам, я не понимаю слово «неуместно», – отозвался первый голос, – когда речь идет о здоровье моей внучки.
– Не знай я, что вам доставляет удовольствие высказывать мнения, противные моим, я затруднилась бы объяснить вашу чрезмерную чувствительность.
– Можете язвить сколько угодно, мадам, но я, не зная, что происходит в спальне Валентины и не подозревая истины, проходила мимо и случайно услышала голос кормилицы, хотя ждала услышать голос графа. Тогда я вошла и увидела, что Валентине совсем плохо, что она почти без чувств, и, поверьте мне, в такие минуты…
– Валентина любит мужа, муж ее любит, и я уверена, что он будет ее щадить в той мере, в какой это потребуется.
– Разве новобрачная знает, что нужно требовать? Разве у нее есть на это права? Разве с ними считаются?
Тут окно захлопнули, и Бенедикт не расслышал продолжения. В эту минуту он познал, что ярость может подсказать человеку самые безумные и кровожадные замыслы.
– О отвратительное насилие над священнейшими правами! – воскликнул он. – О отвратительная тирания мужчины над женщиной! Брак, общество, общественные институты, я ненавижу вас, ненавижу смертельно, а тебя, Господь Бог, тебя, творящая сила, бросающая нас на землю и тут же отступающаяся от нас, тебя, что отдает слабого в руки деспотов, – я проклинаю тебя! Довольный созданным, ты почиешь от трудов своих, равнодушный к судьбам сотворенных тобой. Ты вкладываешь в нас душу, и с твоего же соизволения несчастье губит ее! Будь же ты проклят, будь также проклято чрево, носившее меня!
С этими мыслями злосчастный юноша зарядил пистолеты, рванул на груди рубаху и, уже не думая о том, что ему следует таиться, взволнованно зашагал вперед. Внезапно искра разума, вернее, некое просветление рассеяло бред, озарило его. Есть средство спасти Валентину от этой гнусной, оскорбительной тирании, есть средство покарать эту бессердечную мать, которая бесстрастно обрекает дочь на узаконенное посрамление, на худшее из посрамлений, какому можно подвергнуть женщину, – на насилие.
«Да, насилие! – яростно твердил Бенедикт (не надо забывать, что Бенедикт был натурой, готовой идти на крайности, натурой легковоспламеняющейся). – Каждый день именем Бога и общества какой-нибудь мужлан или подлец добивается руки несчастной девушки, которую родители, честь или нищета вынуждают задушить в груди чистую и священную любовь. И на глазах общества, которое одобряет и благословляет сие кощунство, целомудренная и трепещущая дева, сумевшая устоять перед порывами своего возлюбленного, сдается и подвергается унижению объятиями ненавистного ей, навязанного властелина! И вот неизбежное зло свершается!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жорж Санд Валентина. Леоне Леони [сборник] обложка книги](/books/28212/zhorzh-sand-valentina-leone-leoni-sbornik-cover.webp)