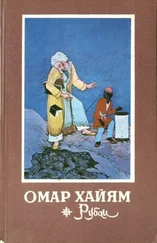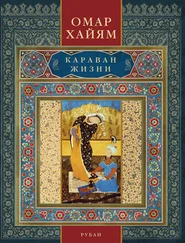Все обсудив без страха, мы истину найдем, -
Небесный свод представим волшебным фонарем:
Источник света -- солнце, наш мир -- сквозной экран,
А мы -- смешные тени и пляшем пред огнем.
(пер. Л. Некора) [nek-0041]
Сжато до предела формулирует поэт самую суть проблемы: Человек -- Вселенная, Человек -- Время:
Круг небес, неизменный во все времена,
Опрокинут над нами, как чаша вина.
Это чаша, которая ходит по кругу.
Не стони -- и тебя не минует она.
(пер. Г. Плисецкий) [pli-0176]
Был ли в самом начале у мира исток?
Вот загадка, которую задал нам бог.
Мудрецы толковали о ней, как хотели, -
Ни один разгадать ее толком не смог.
(пер. Г. Плисецкий) [pli-0009]
И рядом иной раз незамысловатые сентенции, и по мысли и по легкой изящной манере выражения вполне традиционные для раннеклассической персидско-таджикской поэзии:
Не тверди мне, больному с похмелья: "Не пей!"
Все равно я лекарство приму, хоть убей!
Нету лучшего средства от горестей мира -
Виноградною кровью лечусь от скорбей!.
(пер. Г. Плисецкий) [pli-0392]
В обширном цикле хайямовских рубаи особенно поражает исследователя противоречие, нередко взаимоисключение содержащихся в них идей. Мы видим в этих стихах страстное стремление постичь тайны рока и агностицизм, проповедь активного добра и отгораживание от мира, беспечную теорию "одного дня" и обывательскую мудрость самосохранения, сетование на несправедливость неба в распределении земных благ и высмеивание сытого благополучия. Мы находим в четверостишиях полярно противоположные точки зрения: ироничное спокойствие все постигшего мудреца и отчаянно-дерзкий протест бунтаря. Поэт пленен жизнью, жизнь -- неиссякаемый источник наслаждений:
Сад цветущий, подруга и чаша с вином -
Вот мой рай. Не хочу очутиться в ином.
Да никто и не видел небесного рая!
Так что будем пока утешаться в земном.
(пер. Г. Плисецкий) [pli-0423]
И вот -- отвращение от жизни, в смерти поэт видит желанный исход от мучений земного бытия. А еще лучше -- не знать этого света совсем :
Добровольно сюда не явился бы я.
И отсюда уйти не стремился бы я.
Я бы в жизни, будь воля моя, не стремился
Никуда. Никогда. Не родился бы я.
(пер. Г. Плисецкий) [pli-0122]
Эту пестроту ценностных ориентаций, "смесь высоких доблестей и низменных страстей" некоторые литературоведы относили не без оснований за счет вплетения в поэтическое наследие Хайяма стихотворений других поэтов, каждый из которых выражал свой взгляд на мир.
Однако это верно лишь отчасти. В обширном хайямовском цикле - и в этом еще одна загадка, заданная Омаром Хайямом, -- четверостишия слиты столь органично, что "бродячие" рубаи не ощущаются чужеродными равным образом ни в диванах многих поэтов, ни среди стихотворений великого Хайяма. Смены и перепады настроений, широкий разброс оценочных суждений о жизни, -- в общем свойственные живому человеку на разных этапах его земного пути, -- мы наблюдаем у многих персидско-таджикских авторов XI--XIV веков, каждый из которых нес в себе большую или меньшую частицу хайямовского гения.
Хайям, философ и лирик, несомненно опирался в своем поэтическом творчестве на свой опыт жизни в большом городе, на умонастроения окружавших его образованных горожан. В хайямовских мотивах, в самой их противоречивости следует видеть тот набор всечеловеческих истин, которые мы находим в пословичном фонде любого из народов. Облеченные в меткие речевые формулы -- афоризмы, сжатые сентенции, меткие присловья, -- они извечно питали дух человека в его неудовлетворенности жизнью. Философские рассуждения и житейская дидактика, заложенная в хайямовских четверостишиях, должны нами пониматься расширительно: в них художественно выражены мысли и чувства, имевшие хождение в широких слоях населения средневекового города,
Эта часть ранней персидско-таджикской поэзии -- хайямовские четверостишия, включая все "странствующие" и "бродячие" и -- шире -- хайямовские мотивы вообще, -- представляет особую ценность. Мы можем рассматривать их как своего рода "обобществленную" житейскую мудрость и "обобществленную" лирику, которая прежде всего и была пищей для ума и сердца в средневековом обществе. Кочевание их из дивана в диван и многовариантность -лучшие свидетельства широкой распространенности их, сопряженной со множественностью переписок и устных передач.
Непосредственное отражение в хайямовских четверостишиях городского свободомыслия можно увидеть еще и в том, что лирический герой Хайяма -- гуляка-вольнодумец, так называемый ринд, -- был в эту эпоху одним из самых популярных персонажей персидско-таджикской литературы. Строки хайямовских стихов обрисовывают колоритную фигуру ринда:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу