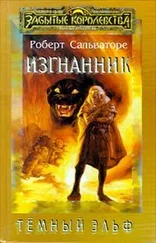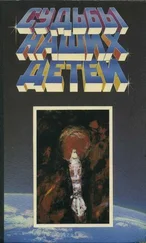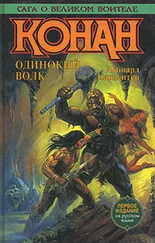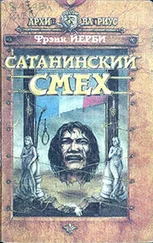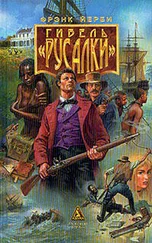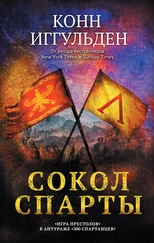лания рвать, терзать, причинять боль и наслаждаться этим вплоть до оргазма.
Причинять боль или испытывать ее! Ибо нечто обратное тому, что он сейчас испытывал, нечто столь же неясное, столь же противоестественное, он видел, чувствовал, распознавал и на ее лице; этот голод, отражавшийся в лихорадочном блеске ее глаз; эта истома, читавшаяся во влажной мерцающей податливости губ ее приоткрытого рта. Еще одна из голов гидры. И для него самая огромная, самая ужасная из всех. Ибо теперь он знал, что именно она правила всей его жизнью. Эта уродливая, безумная, унизительная потребность страдать, которую в этот самый миг, хотя тогда он не сознавал этого пройдет какое-то время, прежде чем он это поймет, - она убила в нем, изгнала ее из него, как изгоняют злых духов, тем, что наглядно продемонстрировала ему всю омерзительную сущность этой пожиравшей его страсти к самоуничижению.
И тогда в нем поднялась еще одна голова этой божественной и демонической твари. Но она была не такой, как остальные, ибо он почувствовал это впервые: дикое, мучительное желание наконец-то избавиться от нее, обрести свое счастье, найти какой-то способ вернуть Клео. И причинить, таким образом, вред Автолику, своему другу, который ни разу в жизни не сделал ему ничего дурного, который всегда проявлял такое благородство, который...
Внезапно пелена спала с его глаз. Все эти извивающиеся чешуйчатые головы опустились на дно, пропали, сгинули без следа.
- Нет, Хрис, - спокойно произнес он. - Если хочешь, можешь поискать себе судью или палача где-нибудь в другом месте. Или даже истязателя. В таких делах я тебе не помощник. Все, что я могу тебе предложить, - это две вещи, которые тебе не нужны.
- А именно? - прошептала она.
- Мое прощение и мою жалость. А теперь вставай. Иди и прими ванну. Смой, по крайней мере, его пот. Меня мутит от его запаха.
- Аристон, - сказала она.
- Да, Хрис?
- Ты более жесток, чем я думала. Может быть, более, чем ты сам подозреваешь. Ты приговариваешь меня к жиз
ни. Со всем этим ужасом во мне. Ты сможешь, ты посмеешь сделать это?
- Да, Хрис, - сказал он. - Посмею. И смогу. Тогда она поднялась на ноги. Долго стояла, смотря ему в глаза.
- Что ж, пусть это будет на твоей совести, Аристон, - медленно, размеренно проговорила она, - как и все ужасные злодеяния, которые я, возможно, совершу с этого дня. По твоей вине. Из-за того, что ты не избавил меня от моей вины. И еще...
Он смотрел на нее и ждал, и ее слова не вызывали в нем ничего, кроме смертельной усталости.
- Знай, что я буду ненавидеть тебя до самой смерти! - выкрикнула она и швырнула плеть к его ногам. Затем она покинула его спальню так же, как давно уже ушла из его сердца.
Он вымылся и надушился, словно пытаясь избавиться от всей этой грязи, которую он чисто физически ощущал на себе до сих пор. Он уселся за стол, разложил перед собой папирус, чернильницу, гусиные перья, ящичек с сухим песком. Долго сидел, погруженный в свои мысли, прежде чем написать несколько строк из числа тех очень немногих отрывков его произведений, которые дошли до нас:
Она хотела, чтобы я вину, ее терзавшую, похитил,
Я, чья душа вину свою избыть была не в силах,
Так как же мог я излечить болезнь, от коей
Я сам страдал всю жизнь, от муки корчась?
Вот, о великий Еврипид, Софокл бессмертный,
Вот где трагедия нашла себе обитель.
Она внутри нас, и скрипящие устройства ваши,
Богов спуская на веревках, как с Олимпа,
Бессильны из души ее извлечь живую,
Ибо она, тюрьму свою покинув по воле бога,
Умирает в муках
И кровью орошает его руки,
Бессмертные, которые, возможно,
Придуманы людьми, как сами боги...
Глава XXIII
Аристон очень медленно поднимался по крутым каменистым тропинкам, ведущим к Акрополю. Он нес корзину. В ней была пара голубей, которых он собирался принести в жертву Афине.
"Интересно, зачем я пришел сюда, - думал он. - Ведь я не верю в богов. Да и сами боги, если они все же существуют, причинили мне много зла. А может быть, я сам причинил им много зла, ибо что такое моя жизнь, как не один сплошной грех, кощунственная вонь для их олимпийских носов?" И все же...
Все же он взбирался по древним козьим тропам к белоснежным мраморным обиталищам богов. Сам не зная почему, он часто обретал там покой, ну если не покой, так, по крайней мере, некоторое ослабление чувства тревоги, постоянно владевшего им. И особенно в храме Афины, который называли Парфеноном, Домом Дев, поскольку все жрицы Богини Мудрости давали обет вечной непорочности. А даже временное избавление от терзавших его душевных мук, по его мнению, стоило этого нелегкого подъема.
Читать дальше