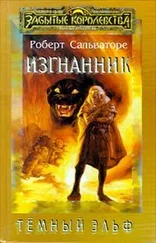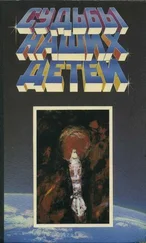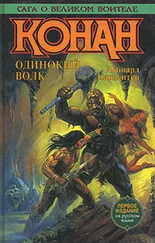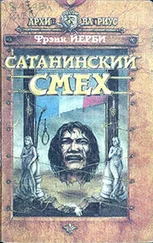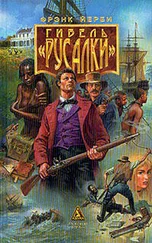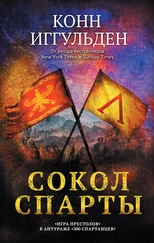- Попытайся. Я знаю, ты сможешь. Это я слаба. И именно поэтому я умоляю тебя сжалиться надо мной, мой господин. Пощади меня, молю тебя!
- Если я только смогу, - прошептал он. - Клянусь всеми муками Тантала, оковами Прометея, камнем Сизифа, я не приду сюда, если смогу. Я клянусь тебе в этом моей любовью!
Но он не смог. Ничто не могло отвлечь его, заполнить пустоту в его сердце и мыслях. Хрисея была уже на поздней стадии беременности, всецело поглощенная своей безумной идеей, что на этот раз ее ребенок выживет, невзирая на весь ее предшествующий опыт, убедительно свидетельствовавший об обратном. Но даже если бы она не была столь погружена в свои переживания, ее скромные прелести вряд ли смогли бы удержать его. Он решил прибегнуть к испытанному средству и отправился в благоуханную обитель греха Парфенопы. Увы, он быстро убедился, что сжигала его не просто похоть, что страдал он от истинной любви, что его ум, душа и трепещущая плоть плавились в ее горниле, теряя способность реагировать на что-либо иное, что он уже не мог смотреть ни на какое другое лицо, каким бы прелестным оно ни было, слышать другой, пусть самый нежный, голос, желать другое, пусть самое гибкое и сладострастное, тело.
Всю ночь он просидел у окна, рассеянно прислушиваясь к шумным возгласам ликующей толпы. До Афин наконец-то дошли известия от Алкивиада, который, очевидно, вознамерился доказать, что нельзя судить о человеке по его поведению или внешности, во всяком случае, если этот человек гений. Как Алкивиад. Величайший полководец, который когда-либо рождался в Афинах. Этот любитель мальчиков. Этот жеманный, шепелявый щеголь. Этот нечестивый богохульник. Этот ценитель шлюх. Этот вечно пьяный мерзавец, который вернул Фасос и Селимбрию. Захватил Хризо-поль и основал там таможню, так что теперь каждый корабль, идущий из Понта Эвксинского, вынужден платить дань Афинам. Осадил Халкедон, обложил его данью и принудил к союзу и вот теперь измором взял могучую Византию, царицу городов, так что Афинская Сова вновь распростерла свои крылья над всем Боспором.
И тем самым, по всей видимости, принес мир Афинам. "Лишив меня, размышлял Аристон - единственного достойного выхода из создавшейся ситуации - превратить квадратный род чужой земли в землю Аттики, полив его моей кровью. Что же, да будет так! Да простят меня Артемида и Гестия! Да поглотит мою честь мрак Аида! А мою тень - Тартар!"
Он встал и вышел в ночь.
Он подошел к этому маленькому домику. Тихо, неуверенно постучал в эту дверь.
Клеотера открыла ее. Она молча стояла на пороге. В руке у нее был фонарь. В его свете он заметил, что глаза ее покраснели и опухли от слез.
- Клео, - произнес он.
Она стояла и смотрела на него. Затем очень спокойным голосом она сказала:
- Я не думаю, что ты согласишься уйти и не делать меня соучастницей прелюбодеяния, не так ли. Аристон?
- Нет, - сказал он. - Я не соглашусь на это.
- И тебя не остановит то, что ты заставишь меня презирать себя всю оставшуюся жизнь? Что ты превращаешь меня в тварь, злоупотребляющую доверием женщины, которая была добра ко мне? Которая целовала меня, плакала
над моими ранами, как сестра? И которая собирается - о бога, помогите мне! Помогите мне произнести слова, которые убивают меня! - которая собирается...
- ...родить мне ребенка. Нет, не остановит, - мрачно сказал он. - Все это не имеет никакого значения. Есть только один способ избавиться от меня, Клео.
- Какой же? - прошептала она,
- Сказать - так, чтобы я поверил, - что ты не любишь меня, - сказал Аристон.
Она долго смотрела на него. Очень долго. Затем она вздохнула. Ее вздох прошелестел как невидимый меч, медленно пронзающий ее бьющееся сердце.
- Входи, Аристон, - сказала она.
Он увидел ее лицо. Оно было белее фригийского мрамора. Даже губы ее были совершенно белыми. Она не дышала. Ее глаза закатились, как у мертвеца, как у животного, затравленного охотниками. Он открыл рот и закричал:
- Клео! О бессмертные боги, Клео! Но она не отозвалась, она не могла отозваться. Он прижал ее к себе; ее нагое тело стало податливым, как воск; он бешено тряс ее, и слезы катились у него из глаз, и их было так много, что он уже не мог видеть ее лица за этой слепящей пеленой.
- Клео! О Гестия, Артемида, простите меня! О Клео! Внезапно ее глаза широко открылись. Она разомкнула уста, и ее дыхание вырвалось наружу порывом штормового ветра, ударившим в его горло. И на этом ветру трепетали сорванные лепестки ее губ, кружась в этом вихре, пытаясь облечь звук в слова, что-то сказать...
Читать дальше