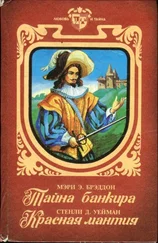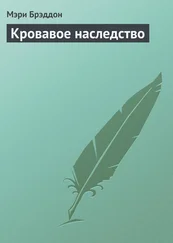– Негодяй! – крикнул он. – Низкий трусишка, не имеющий капли человеческих чувств!.. Клянусь, что если б я знал вас так, как знаю теперь, то не сделал бы шага, чтобы освободить вас из конуры, в которой вы провели всю молодость… Пусть бы вы сгнили там! Я не думаю, чтобы в Ньюгэте нашелся хоть один презренный человек, способный сделать то, что вы решились сделать!.. Я ненавижу вас, я презираю вас, но что больнее всего – ненавижу себя – за то, что я дерзнул вытащить вас из тины!
Никому из присутствующих не удавалось видеть майора в таком гневе: высокий и сильный, он казался гигантом в сравнении с баронетом, прижатым к стене и мысленно желавшим провалиться сквозь землю, чтобы только не видеть сверкавших негодованием глаз майора Варнея.
– Я не хотел ей сделать никакого вреда, – проговорил он слабо и дрожа всеми членами, – зачем же она вывела меня на эту сцену? Я вовсе не хочу, чтобы всякие бродяги приходили сюда целовать мои руки и выставлять меня в самой нелепой роли в глазах моих гостей. Зачем, черт возьми, притащила ее сюда леди Оливия?… Она, наверно, сделала это просто нарочно, чтобы мучить меня… Если этой женщине нужно пять фунтов стерлингов, то я дам их охотно, только бы она оставила меня совершенно в покое… В ней никто не нуждается, и потому ей незачем у меня оставаться… Да будь проклято это бледное, противное лицо!
– Она должна остаться здесь столько, сколько ей вздумается, – возразил майор. – Она останется, чтобы доказать вам, что вы человек с самой черной душой. Знак, который вы сделали на ее лице, не изгладится никогда, она пойдет с ним в гроб… Вы знаете, что я не из числа чувствительных, но все же я помню свою мать, потому что любил ее, пока люди и свет не научили меня заботиться единственно о своих интересах! Я никогда не подымал руки на женщину вообще, а тем менее на женщину, имевшую такое значение в моем прошлом.
– Но вы не знаете еще всего, майор Варней, – сказала леди Лисль, посадившая при помощи других Рахиль Арнольд на кресло. – Вам, верно, еще не известно, что несчастная женщина не принимала ровно никакого участия в заговоре своего мужа против сэра Руперта, она была его единственной защитницей в то время, когда он не имел во всем свете ни единого друга. Мы сейчас видели, чем он отплатил за подобную преданность.
– Молчите! – крикнул баронет с ужасным озлоблением.
Майор в эту минуту выпустил из рук Лисля, и он стал поправлять бант своего галстука.
– Что же касается вас, Оливия, – продолжал он, – то прошу вас оставить меня совершенно в покое и не вмешиваться в мои дела… Вам легко толковать о любви и о преданности, вам, такой эгоистке! И вы, конечно, преданы, но не моей особе, но моему богатству, и, кроме этой преданности, от вас нечего ждать!
Оливия гордо выпрямилась и прошла мимо мужа, не удостоив его ни одним словом; но, подойдя к двери, она остановилась и сказала со спокойной и холодной решимостью:
– Я до минуты смерти не позабуду вашего бесчестного поступка, вашей низости, Руперт Лисль, и не прощу себе, что я могла забыть уважение к себе настолько, чтобы сделаться женой человека, достойного всеобщего и полного презрения!
Она ушла, не дав ему возможности ответить. Когда дверь затворилась и гости поспешили выйти на свежий воздух, Руперт бросился в кресло и заплакал навзрыд.
– Она неумолима! – говорил он отрывисто. – Какой же я несчастный! Мне лучше умереть… Лучше быть бы собакой!.. Хотелось бы уйти куда глаза глядят, только бы не быть здесь!.. О, если б я мог залететь далеко-далеко от Лисльвуда!
Оливия прислала экономку позаботиться о Рахили. Несчастная женщина была отнесена в отдаленную комнату, где горничная раздела ее и осталась при ней до прибытия доктора.
Обед в замке был скучный: Оливия отправилась к отцу, баронет обедал в своей комнате, а майор должен был исполнять роль хозяина. Сколько он ни шутил для того, чтобы изгладить неприятное впечатление, произведенное на всех сценой в бильярдной, – разговор не вязался: над присутствующими нависла мрачная туча. Не всякому приятно пользоваться роскошными обедами человека, достойного презрения, и за столом сэра Руперта не было никого, кто бы не предпочел разделить кусок сала с суссекским крестьянином пированию в Лисльвуде.
– Я с ужасом присутствовал при этой возмутительно отвратительной сцене, – сказал один старик одному из своих соседей за столом, – так как я видел в ней доказательство принижения наших древних фамилий. Лисли, милостивый государь, считались самыми благородными людьми в Суссекском графстве в течение сотен лет. Могу уверить вас, что поведение этого низкого человека оскорбило меня за все наше почтенное английское дворянство!
Читать дальше
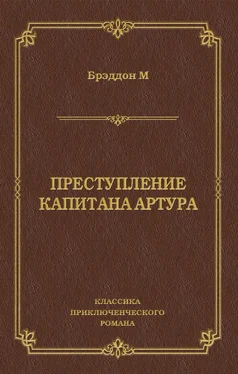
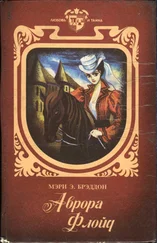



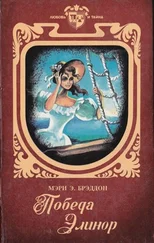



![Оскар Уайльд - Волшебные сказки. Преступление лорда Артура Сэвила [Илл. Ж. М. Зинченко]](/books/419997/oskar-uajld-volshebnye-skazki-prestuplenie-lorda-thumb.webp)