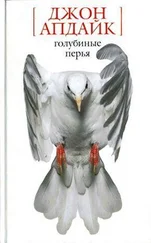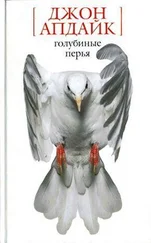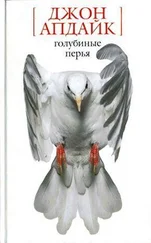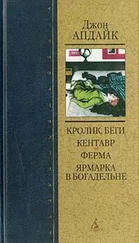Совершенно голая и в то же время целомудренная девчушка подошла и взяла его за руку так естественно, как могла взять только дочь. Он попытался найти в памяти ее имя, но вспомнил только лицо в ореоле косичек и слегка опущенные, как у Кадонголими, края губ, а также более короткое, более кряжистое тело без свойственной молодости гибкой стройности. Девчушка повела его по проходам, где стоял треск и звон, мимо комнат, где люди сидели на корточках группами и парами, где штопали, мешали пищу в котлах, плакали, кормили младенцев грудью, ругались, ворковали, предавались любви, дышали и занимались всем этим с благоволения смотревших на них жилистых деревянных фетишей, украшенных краденым мехом и перьями; это присутствие божеств не вызывало отвращения и не казалось нелепым среди циновок, камней для толчения, огромных мисок и высоких ступок, не служащих украшениями, как в эклектической вилле Ситтины, а составляющих здесь часть повседневной жизни, коричневой и примитивной, как кожура семени, которая лопается, выпуская на волю новую жизнь. На память Эллелу пришел язык его детства — с ударениями, свойственными родной части края земляного ореха, с проглатываемой буквой «л» и прищелкиваниями языком. Племянники, невестки, тотемные братья, сестры вторых жен двоюродных дядей приветствовали Эллелу, причем все с ироническим ликованием — надо же, он, из племени салю, сумел обставить чужие племена, став во главе этой страны, созданной белыми людьми, и тем самым присвоив все ее блага для их семьи. По лицам этих родственников ясно было, что несмотря на все маски, которые меняющийся мир заставлял его носить, он по-прежнему был одним из них, что никакой нектар или эликсир, который мир способен предложить Эллелу в качестве напитка, не сравнится с любовью, которую он вобрал в себя из их общей крови. И это было правдой: с тех пор как он занял свой пост, эта вилла поглотила виллы справа и слева, и в центре Ле Жарден возникла обширная деревня — в ней не хватало только круглых зернохранилищ из белой глины, окружающих, словно гигантские жемчужины, хибары.
Голая дочь провела Эллелу через двор, где из выломанных плит сложены печи. В другом конце, за аркадой, Кадонголими устроила затененную приятную гостиную, где она принимала свое многочисленное потомство. Она разбухла, как королева термитов, и часами полулежала на алюминиевом шезлонге с пенопластовыми подушками, который белые обитатели этой виллы, обожавшие принимать солнечные ванны, бросили здесь, когда однажды слуги не откликнулись на их зов, а вместо них появился молоденький солдатик и объявил, что, поскольку у них другой цвет кожи, они не принадлежат больше к истиклальской элите. Когда Кадонголими стала хозяйкой виллы, она велела перенести шезлонг внутрь и превратила его в свою дневную кровать. Двое детишек усердно обмахивали ее торс пальмовыми ветками. На щеках ее была татуировка в виде полукругов, обозначавших и украшавших невест из племени салю, пока их не запретил ЧВРВС. Мочки ее ушей были проколоты и оттянуты — по торжественным дням и праздникам она носила золотые серьги величиной с кулак; сейчас серег не было, и ее мочки толстыми черными шнурами свисали до плеч. Она приподняла розовую кисть, этакий цветок с мясистыми лепестками, прикрепленный к опухшей старой руке.
— Бини, — сказала она. — Ты похож на ворона. Что тебя мучает?
Она назвала мужа Бини, амазегским именем, под которым она знала его с того возраста, когда он сполз с колен матери и стал ходить. Кадонголими была на четыре года старше его. Когда ему было пять лет, она была уже длинноногим девятилетним существом с пронзительным голосом, властная, как мать. На правах двоюродной сестры она бережно обследовала его голову в поисках вшей. Когда они поженились, она была уже женщиной, прожившей треть жизни, и трепещущая, шуршащая, густая ее волосня вставала между ними в их первые ночи. Ее превосходство всегда присутствовало, но со временем стало доставлять удовольствие Эллелу. Он словно плавал с ней в маслянистой ванне, недооцененный, невесомый, застенчивый. Для Кадонголими он всегда будет ребенком, только что сошедшим с колен матери. Поскольку в комнате не было стульев, он сел на корточки, отломал веточку от куста, просунувшегося в дыру в стене, и начал чистить зубы.
— Боги, — неуверенно произнес он, покусывая веточку. Что-то в коре или в зелени напоминало по вкусу эти блестящие красненькие американские конфетки, которые едят главным образом зимой, в ту пору, когда зима уже отступает, когда с ветвей с треском падают сосульки и черные улицы блестят от тающих снегов.
Читать дальше