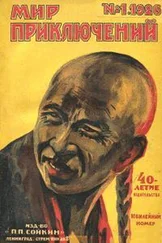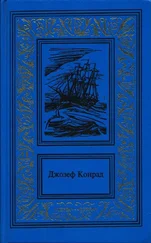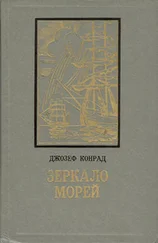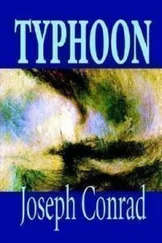- Я как-нибудь справлюсь, сэр, - слабо ответил он.
Собственно говоря, ему нечего было делать. Судно не слушалось руля. Оно стояло носом на запад, с вечным Ко-рингом за кормой; несколько маленьких островков, черных пятен в ослепительном блеске, плавало перед моими омраченными глазами. И, кроме этих кусочков земли, не было ни пятнышка на небе, ни точки на воде, ни облачка пара, ни завитка дыма, ни паруса, ни лодки, ни следа человека, ни признаков жизни - ничего.
Первый вопрос был: что делать? Что можно было сделать? Очевидно, прежде всего надо сказать экипажу.
Я так и поступил в тот же самый день. Я не хотел, чтобы эта новость просто распространилась среди них. Я хотел стать с ними лицом к лицу. С этой целью я собрал их на шканцах.
Прежде чем выйти к ним, я сделал открытие, что в жизни могут быть ужасные мгновения. Ни один сознавшийся преступник не был так подавлен чувством своей вины.
Вот почему, быть может, мое лицо было сурово, а голос сух и бесстрастен, когда я объявил, что ничего больше не могу сделать для больных и лекарств нет. Что же касается ухода за ними, то они знают, что в этом отношении сделано все возможное.
Я считал бы их правыми, если бы они разорвали меня на части. Молчание, последовавшее за моими словами, было, пожалуй, труднее перенести, чем самую гневную вспышку. Я был уничтожен бесконечной глубиной скрытого в нем упрека. Но оказалось, что я ошибался. С великим трудом стараясь говорить твердым голосом, я продолжал:
- Полагаю, вы поняли, что я сказал, и знаете, что это значит.
- Да, сэр, мы понимаем, - послышались голоса.
Они молчали просто потому, что, по их мнению, им не полагалось говорить; когда же я сказал, что намереваюсь идти в Сингапур и что все зависит от усилий, которые все мы, больные и здоровые, должны приложить, чтобы вывести отсюда судно, раздался тихий одобрительный шепот, а один голос воскликнул:
- Наверняка можно как-нибудь выбраться из этой проклятой дыры.
* * *
Вот выдержки из дневника, который я вел в ту пору.
"Наконец-то мы потеряли из виду Ко-ринг. За несколько дней я, пожалуй, не провел внизу и двух часов. Я остаюсь на палубе день и ночь, и дни и ночи катятся над нами одни за другими, длинные или короткие, кто может сказать? Всякое чувство времени теряется в монотонности ожидания, надежды и желания - всегда одного и того же: продвинуть судно к югу. Продвинуть судно к югу.
Результат получается странно-механический; солнце подымается и опускается, ночь восходит над нашими головами, словно кто-то под горизонтом поворачивает колесо... Как чудесно и как бесцельно! И пока длится это жалкое зрелище, я шагаю, шагаю по палубе. Сколько миль я прошел по юту этого судна! Упорное, безостановочное паломничество, которое разнообразят короткие экскурсии вниз, взглянуть на мистера Бернса. Я не знаю, может быть, это только кажется, но он как будто становится крепче с каждым днем. Говорит он немного, так как, по правде сказать, положение не располагает к праздным разговорам. Я замечаю это даже на матросах, когда они ходят или сидят на палубе. Они не разговаривают друг с другом.
Мне приходит мысль, что если существует невидимое ухо, улавливающее шепоты земли, оно не найдет на ней места молчаливее этого судна...
Да, мистеру Бернсу нечего сказать мне. Он сидит в своей койке, без бороды, со своими огненными усами и с выражением молчаливой решимости на белой как мел физиономии. По словам Рэнсома. он съедает все, что ему приносят, до последней крошки, но, по-видимому, спит очень мало. Ночью, спускаясь вниз набить себе трубку.
я замечаю, что даже и спящий, лежа на спине, он имеет очень решительный вид. Взгляд, который он искоса бросает на меня, если не спит, как будто выражает досаду, что его прервали во время какой-то трудной умственной работы. А когда я выхожу на палубу, мой взгляд встречает установленное расположение звезд, не затянутых облаками, бесконечно утомляющих. Вот они: звезды, солнце, море, свет, мрак, пространство, великие воды; грозное творение семи дней, в которое человеческий род попал непрошеным, словно по ошибке. Или же его заманили.
Как заманили меня на это ужасное, это преследуемое смертью судно".
* * *
Единственным пятном света на судне ночью был свет ламп нактоуза, освещавший лица сменяющихся рулевых; остальное тонуло во мраке - и я, шагающий по юту, и люди, лежащие на палубе. Все они были так обессилены болезнью, что некому было стоять на вахте. Те, которые были в состоянии ходить, оставались все время наверху, лежа в тени на верхней палубе, пока отданное мною громким голосом приказание не поднимало их на ослабевшие ноги - маленькую, ковыляющую кучку, терпеливо движущуюся по судну, без ропота, без перешептываний. И каждый раз, как мне приходилось повышать голос, я делал это с угрызениями совести и мучительной жалостью.
Читать дальше