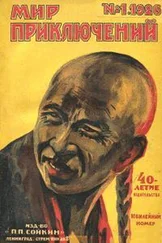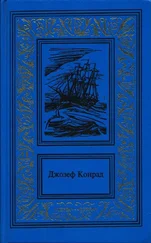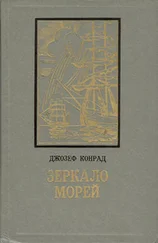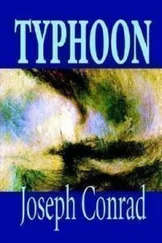"Ты тоже! - казалось, говорила она. - Ты тоже вкусишь от этого покоя и этой тревоги в испытующей близости со своим собственным "я" - никому не ведомый, как и мы, и такой же властелин перед лицом всех ветров и всех морей, в безмерности, не хранящей отпечатков, не таящей воспоминаний и не ведущей счета жизням".
Глубоко внутри потускневшей золоченой рамы, в горячем полусвете, просачивавшемся сквозь тент, я видел свое собственное лицо, подпертое обеими руками. И я смотрел на себя с полной отрешенностью, вызванной расстоянием, смотрел скорее с любопытством, чем с каким-либо другим чувством, кроме разве некоторой симпатии к этому последнему представителю того, что по всем своим намерениям и целям было династией, непрерывной не по крови, а по опыту, по тренировке, по пониманию долга и по благословенной простоте своей традиционной точки зрения на жизнь.
Мне пришло в голову, что этот спокойно сидящий человек, которого я рассматривал, как если бы он был одновременно я сам и кто-то другой, не является, в сущности, одинокой фигурой. Он имел свое место в ряду людей, которых он не знал, о которых никогда не слышал, - на этих людей воздействовали те же силы, их души в своем отношении к скромной жизненной задаче не имели от него тайн.
Вдруг я заметил, что в салоне находится другой человек, стоящий немного боком и напряженно смотрящий на меня. Старший помощник. Его длинные рыжие усы определяли характер его физиономии, которая показалась мне сварливой на какой-то (странно сказать) жуткий лад.
Сколько времени стоял он здесь, глядя на меня, оценивая меня в моем беспечно-мечтательном состоянии?
Я был бы более смущен, если бы не заметил, что длинная стрелка часов, вделанных в верхушку зеркальной рамы как раз напротив меня, почти не передвинулась.
Я пробыл в этой каюте не больше двух минут. Скажем, три... Таким образом, он не мог наблюдать за мной дольше какой-нибудь доли минуты - к счастью. Тем не менее мне было досадно, что так вышло.
Но я не показал и виду, а неторопливо (так надо было)
встал и дружелюбно поздоровался с ним.
В его манерах было что-то принужденное и в то же время настороженное. Фамилия его была Бернс. Мы вышли из каюты и вместе обошли судно. В ярком свете дня лицо его оказалось очень усталым, худым, даже изможденным. Я как-то стеснялся глядеть на него слишком часто; его же глаза, напротив, были буквально прикованы к моему лицу. Они были зеленоватые и смотрели выжидательно.
Он с готовностью отвечал на все мои вопросы, но мое ухо уловило оттенок неохоты. Второй помощник был занят с тремя или четырьмя матросами на баке. Старший помощник назвал его фамилию, и я кивнул ему мимоходом.
Он был очень молод. Он показался мне совсем еще молокососом.
Когда мы вернулись вниз, я сел на глубокий полукруглый или, вернее, полуовальный диван, обитый красным плюшем. Он тянулся вдоль всей задней стены каюткомпании. Я предложил сесть и мистеру Бернсу, и он опустился на один из вращающихся стульев у стола, упорно не спуская с меня глаз, с таким странным видом, как будто все это была игра, и он ждал, что я вот-вот встану, расхохочусь, хлопну его по спине и исчезну из каюткомпании.
Положение было странно-напряженным, и оно начинало действовать мне на нервы. Я старался отогнать это смутное чувство.
"Это попросту моя неопытность", - подумал я.
Перед этим человеком, на несколько лет, по-видимому, старше меня, я ощущал то, что уже оставил позади - свою молодость. А это было слабым утешением. Молодость хороша, она огромная сила - пока о ней не думаешь.
Я чувствовал, что начинаю конфузиться. Почти против воли я напустил на себя угрюмую важность. Я сказал:
- Вижу, у вас все в отличном порядке, мистер Бернс.
Не успел я произнести эти слова, как уже сердито
спросил себя, на кой черт мне вздумалось сказать их?
Мистер Бернс в ответ только заморгал глазами. Что он этим хотел дать понять?
Я вернулся к вопросу, который давно уже вертелся у меня в голове, самый естественный вопрос в устах каждого моряка, вступающего на борт судна. Я произнес его (проклятая конфузливость!) небрежно-веселым тоном:
- Ну, а как оно на ходу?
На подобный вопрос можно было ответить либо сокрушенно-извиняющимся тоном, либо с явно сдерживаемой гордостью, тоном, говорящим: "Я не хочу хвастать, но вы увидите". Есть также моряки, которые были бы грубо откровенны: "Ленивая тварь", или же чистосердечно восторженны: "Летит, как птица!" Два способа, хотя четыре манеры.
Читать дальше