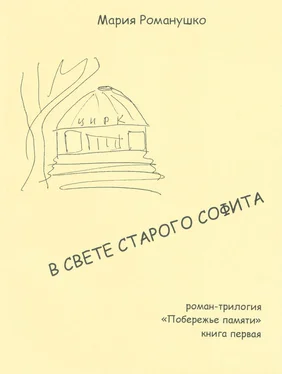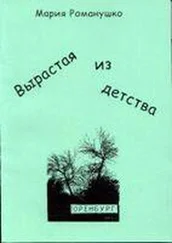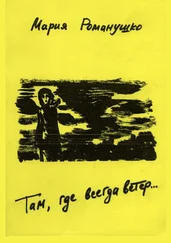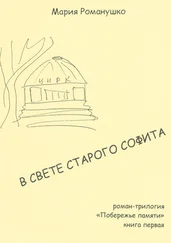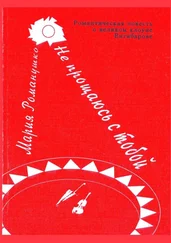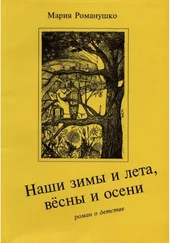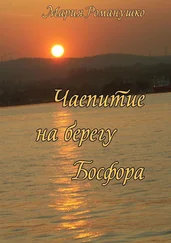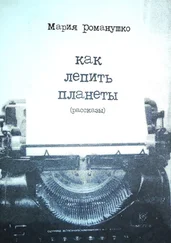…А ещё помню чёрную точку напротив слова «Астрахань». Это была весна 81-го года, уже девять лет, как Моего Клоуна не было на свете… Я работала в Центральном архиве литературы и искусства с его архивом. Никто ещё к ним не прикасался – к этим папкам, туго набитым черновиками, фотографиями, письмами… Архив был до сих пор не обработан. Я была первым человеком, кому позволили прикоснуться к этим драгоценностям. Помню его гастрольный дневник: «Города, годы». Казалось бы, просто перечисление мест, где и когда выступал. Просто перечисление… Но меня почему-то зацепила точка у слова «Астрахань». Это была не просто точка в конце предложения. Она была какая-то особая. Чернее всех остальных. Какая-то значительная. С подтекстом. Не просто точка – ОТМЕТИНА. Как напоминание себе о чём-то. О чём не хотел писать открыто.
Меня эта точка завораживала, буквально засасывала внутрь себя, как тёмный водоворот, как воронка… О чём она – эта отметина? что стоит за нею?…
И вот однажды, когда я вглядывалась в эту чёрную таинственную точку… я почувствовала жар и невыносимую духоту, мне стало трудно дышать… и я ощутила себя в летней Астрахани (в которой никогда в жизни не была), увидела цирк с раскалённым на солнце куполом… и Моего Клоуна, бледного, с испариной на лбу… увидела доктора с чемоданчиком… почувствовала запах лекарства… и услышала страшный приговор: «При такой нагрузке – пять лет, не больше…» Вся картина происшедшего в Астрахани, происшедшего много лет назад, встала передо мной – как будто я присутствовала там. Сосредоточившись на чёрной точке, я – через эту точку – вошла в ту минуту… Разгадала, что было в ней зашифровано…
…Потом, когда повесть была опубликована, тётя Женя, его крёстная, позвонила мне, и первым её вопросом было: «Откуда ты знаешь про Астрахань?» Я рассказала про чёрную точку. Тётя Женя была потрясена. И в ответ рассказала мне про девушку из Астрахани. Эта девушка пришла к ней уже потом, после… после Лёниного ухода. И рассказала, что Лёня, когда был на гастролях в Астрахани, жил у них на квартире, и была в то лето страшная жара, а у него почти каждый день по два спектакля… и однажды ему стало плохо, и вызывали «скорую», и врач сказал: «Пять лет при такой нагрузке».
К сожалению, астраханский доктор не ошибся. Прошло ровно пять лет – и его страшное предсказание сбылось.
Многое в жизни и в характере Моего Клоуна я постигаю чисто интуитивно.
Чтобы рассказать чужую жизнь – нужно войти с ней в унисон.
Нужно переболеть и перестрадать теми же болями.
Это значит – удостоиться.
Чтобы удостоиться – надо заслужить.
Чем заслужить? Только одним – любовью.
И при этом я не могла, не решалась назвать в своей повести Моего Клоуна его настоящим именем. Я долго придумывала ему псевдоним. Не знаю, насколько его «книжное имя» оказалось удачным, но интересно вот что: некоторые читатели говорили мне потом: «А я и не знал, что настоящее имя Енгибарова, оказывается, Нико Варданян!» То есть – читатели приняли это как должное. И даже его родственники, и друзья – никто не задал мне вопроса: «А почему клоуна в твоей книге зовут Нико?»
Моя повесть, вышедшая в 1984 году – это история романтической дружбы Безымянной Девочки и Великого Клоуна. Из-за сокращений текста история дружбы оказалась вынута из той жизни, которая её питала (и продолжает питать).
С повестью «Не прощаюсь с тобой» произошла такая история. Журнал «Литературная учёба», где её захотели опубликовать, этот журнал выходил раз в два месяца, и большие сочинения, с продолжением, они не печатали. А для одного номера моя повесть была слишком велика. В редакции мне сказали: «Сокращайте! На три печатных листа». – «Но это же невозможно!» – «Тогда мы не сможем её напечатать. Выбирайте: или в сокращённом виде – или никак». Страдая, я согласилась на сокращения. Выхода ведь не было.
Я кромсала её целую ночь – резала, как по живому. Где – целые страницы, где – отдельные фрагменты, где – куски фраз, где – выкидывала эпитеты… Надо было сократить почти в два раза. Это было ужасно!
…Потом, через много лет, когда стало возможным издать повесть отдельной книгой, мне не удалось найти её полный вариант. (Компьютеров ведь в то время ещё не было). Повесть была распечатана мной в трёх экземплярах на пишущей машинке, и два экземпляра сразу же ушли из дома: их читали мои друзья, затем передавали своим знакомым, те – своим знакомым… Ну, как обычно, как всегда. И ко мне эти два экземпляра уже не вернулись. А третий экземпляр, на котором производились сокращения, был отдан в редакцию «Литературной учёбы». Вот и всё.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу