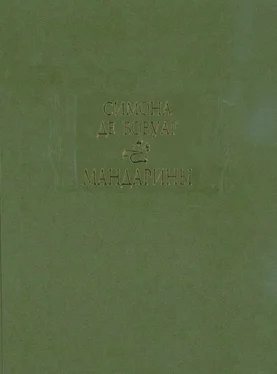Были и другие письма: в Палермо, в Сиракузе; Льюис посылал их по одному каждую неделю, как прежде, и, как прежде, все они заканчивались одним и тем же словом: «Love» {«С любовью» (англ.)}, которое хочет сказать все и не значит ничего. Было ли то по-прежнему слово любви или банальнейшая из формул? Нежность Льюиса всегда была такой сдержанной, и я не знала, что именно можно отнести за счет его сдержанности. Прежде, когда я читала фразы, придуманные им для меня, я вновь обретала его руки, его губы: его ли то вина или моя, если они не согревали меня больше? Солнце Сицилии обжигало мою кожу, но внутри у меня постоянно стоял холод. Я сидела на балконе или лежала на песке, я смотрела на знойное небо и чувствовала озноб. Бывали дни, когда я ненавидела море, оно было монотонно и бесконечно, как отсутствие; воды его были такими голубыми, что казались мне приторными; я закрывала глаза или убегала.
Когда я снова очутилась в Париже, в своем доме, с делами и заботами, я подумала: «Надо взять себя в руки». Встряхнуться, как встряхивают свернувшийся соус: это делают, это осуществимо. Надо отойти немного назад и взглянуть на свои заботы и неприятности оценивающим взглядом со стороны. Можно было сесть рядом с Робером и поговорить или пить виски за откровенным разговором с Поль. Впрочем, я и самостоятельно вполне могла прочитать себе нотацию. Льюис был в моей жизни всего лишь эпизодом, которому обстоятельства заставили меня придать особую ценность. После стольких лет воздержания мне захотелось новой любви, и я совершенно сознательно спровоцировала эту; я преувеличенно возносила ее, потому что знала, что моя жизнь женщины подходит к концу, но, по сути, я могла обойтись без нее. Если Льюис отдалится от меня, я легко возвращусь к прежнему своему аскетизму либо буду искать новых любовников, а все говорят, что, когда ищешь, — находишь. Моя ошибка в том, что я так серьезно воспринимала свое тело: мне нужен психоанализ, который научил бы меня непринужденности. Ах! Как же трудно страдать, никого не предавая. Раз или два я пыталась сказать себе: «Когда-нибудь все это кончится, и у меня останется прекрасное воспоминание о прошлом, так не лучше ли смириться сразу». Однако я взбунтовалась. Что за смешная комедия! Вознамериться держать нашу любовь лишь в собственных руках — это значит подменить Льюиса неким символом, это значит превратить меня в призрака, а наше прошлое — в безжизненные воспоминания. Наша любовь — это не занятная история, которую я могу извлечь из своей жизни, дабы поведать ее себе, она существует вне меня, Льюис и я, мы переживаем ее вместе. Мало закрыть глаза, чтобы упразднить солнце: отрицать эту любовь — означает всего лишь ослеплять себя. Нет, я отказывалась от благоразумных мыслей, ложного одиночества и его гнусных утешений. И я поняла, что отказ этот тоже был притворным: на самом деле я не располагала своим сердцем; я не в силах была справиться с той тревогой, которая охватывала меня всякий раз, когда я распечатывала письмо Льюиса; мои мудрые речи не смогут заполнить пустоту внутри меня. Я была беспомощна.
Какое долгое ожидание! Одиннадцать месяцев, девять месяцев, и все это время нас разделяло столько земли, и воды, и неуверенности. И вот однажды в октябре Надин сказала мне:
— У меня есть для тебя новость.
Была в ее взгляде внушающая тревогу смесь вызова и смущения.
— Какая новость?
— Я беременна.
— Ты уверена?
— Абсолютно. Я была у врача.
Я в упор смотрела на Надин; она умела защищаться, да и в глазах ее блестел лукавый огонек.
— Ты сделала это нарочно? — спросила я.
— Ну и что? — отвечала она. — Это преступление — хотеть ребенка?
— Ты забеременела от Анри?
— Полагаю, что да, раз я сплю именно с ним, — усмехнулась она.
— И он согласен?
— Он пока ничего не знает.
— Но он хотел ребенка? — настаивала я. Она заколебалась.
— Я его не спрашивала. Помолчав, я спросила:
— И что ты собираешься делать?
— Что, по-твоему, можно сделать из ребенка? Куличики?
— Я хочу сказать: ты рассчитываешь выйти замуж за Анри?
— Это его дело.
— Но ведь у тебя есть какие-то планы.
— Мои планы — родить ребенка. А в остальном я никого ни о чем не прошу. Ни разу Надин ни словом не обмолвилась о своем желании стать матерью;
может, это неприязнь навела меня на мысль о том, что главной ее задачей было заставить Анри таким путем жениться на ней?
— Тебе придется попросить, — сказала я. — По крайней мере, на какое-то время либо твой отец, либо Анри — кто-то из них — должен будет взять на себя эту заботу.
Читать дальше