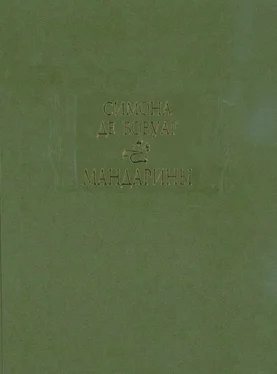— Совершенно безобидный учитель музыки, — ответил Дюбрей. — А внизу люди уехали в отпуск.
Впервые Анри и не думал улыбаться при виде многозначительных повадок Скрясина; высокий темный силуэт рядом с ним придавал сцене внушающую тревогу торжественность. Когда все сели, Скрясин сказал:
— Жорж может говорить по-русски или по-немецки. У него с собой документы, которые он вкратце изложит и прокомментирует для вас. Из всех вопросов, на которые он готов пролить ужасающий свет, самый непосредственный интерес представляет вопрос о трудовых лагерях. С этого и надо начать.
— Пусть говорит по-немецки, я переведу, — с живостью предложил Ламбер.
— Как вам будет угодно.
Скрясин сказал несколько слов по-русски, и Жорж кивнул головой, причем ни одна черта на его лице не дрогнула; казалось, оно было сковано мучительной, неизгладимой горечью. Внезапно он заговорил; взгляд его оставался неподвижным, устремленным куда-то внутрь, к нездешним видениям; но с его омертвелых губ срывались выразительные, страстные слова, то сухие, то патетические. Ламбер не спускал глаз с его уст, словно расшифровывал язык глухонемого.
— Он говорит, что мы должны прежде всего хорошенько понять: существование трудовых лагерей — не случайное явление, на отмену которого когда-нибудь можно было бы надеяться, — переводил Ламбер. — Программа капиталовложений Советского государства требует дополнительных средств, которые могут быть получены только за счет изнурительного труда. Если потребление свободных рабочих опустится ниже определенного уровня, то настолько же снизится и производительность труда. Вот почему приступили к систематическому созданию контингента неквалифицированной рабочей силы, получающей в обмен на максимальный труд ничтожный прожиточный минимум: подобное соотношение затрат возможно лишь при концентрационной системе.
В кабинете воцарилась могильная тишина; никто не шелохнулся; Жорж заговорил снова, и Ламбер снова стал облекать в слова трагический голос:
— Исправительные работы существовали с самого начала установления режима; но в тысяча девятьсот тридцать четвертом году НКВД наделили правами в административном порядке отдавать распоряжение о заключении в трудовой лагерь на срок, не превышающий пяти лет; для более длительного наказания необходимо предварительное судебное постановление. Между сороковым и сорок пятым годами лагеря частично опустели; многие узники были зачислены в армию, другие умерли от голода. Но за последний год они пополнились снова.
Теперь Жорж указывал на разложенных перед ним бумагах названия, цифры, и Ламбер постепенно переводил. Караганда, Чарджоу, Узбекистан. Это не были просто слова: то были куски ледяной степи, болота, прогнившие бараки, где мужчины и женщины работали по четырнадцать часов в день за шестьсот граммов хлеба; они умирали от холода, от цинги, от дизентерии, от истощения. Как только они становились слишком слабыми, чтобы работать, их помещали в больницы, где систематически насмерть морили голодом. «Да правда ли все это?» — с возмущением спрашивал себя Анри. Жорж казался подозрительным, Россия так далеко, а рассказывают столько всего! Он посмотрел на Дюбрея, замкнутое лицо которого не выражало ничего. Дюбрей выбрал позицию сомнения: сомнение — это первая защита, но и ему не следует доверяться. Среди многих вещей, о которых рассказывают, попадаются и правдивые. В тридцать восьмом Анри сомневался, что война начнется завтра; в сороковом он сомневался в газовых камерах... Жорж наверняка преувеличивал, но выдумал он, конечно, не все. Анри открыл на коленях досье: то, что он рассеянно читал несколько часов назад, обрело вдруг страшный смысл. Тут были переведенные на английский официальные тексты, допускавшие существование лагерей. И если быть честным, то нельзя полностью отвергать все эти свидетельства, одни доставленные американскими наблюдателями, другие — насильно угнанными, оказавшимися на каторге у нацистов. Невозможно отрицать это: в СССР тоже одни люди до смерти эксплуатировали других людей!
Когда Жорж умолк, воцарилось долгое молчание.
— С естественным для интеллектуалов мазохизмом вы приняли идею диктатуры духа, — сказал Скрясин. — Но можете ли вы согласиться с этими преступлениями, направленными против человека, против всех людей?
— Мне кажется, что ответ не вызывает сомнений, — сказал Самазелль.
— Прошу прощения, — сухо возразил Дюбрей, — но у меня есть сомнение. Я не знаю ни почему ваш друг сбежал, ни почему он так долго сотрудничал с режимом, который теперь разоблачает перед нами; полагаю, причины у него были веские; однако я не хочу рисковать, потворствуя некой антисоветской махинации. К тому же мы неправомочны давать вам ответ от имени СРЛ: присутствует лишь половина комитета.
Читать дальше