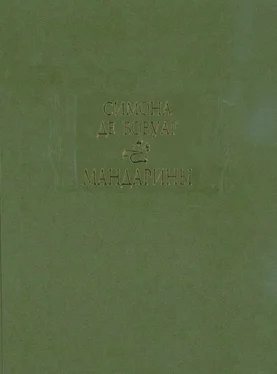— Вы говорите об июле, но Трарье утверждает, что вообще никогда не собирался оказывать нам ничем не обусловленную поддержку, — сказал Анри.
— В апреле, — с живостью возразил Дюбрей, — речь шла лишь о политической линии газеты, и он целиком принимал ее.
— Вы гарантировали мне гораздо большее, — заметил Анри. — Трарье не должен был ни во что вмешиваться, ни в какой области.
— Ах, послушайте! Насчет апреля мне не в чем себя упрекнуть! — сказал Дюбрей. — Я сразу же посоветовал вам пойти и лично объясниться с Трарье.
— Вы говорили с такой уверенностью, что всякое объяснение казалось излишним.
— Я говорил то, что думал, и так, как думал, — возразил Дюбрей. — Я мог ошибаться: никто не безгрешен. Но я не обязывал вас верить мне на слово.
— Обычно вы не совершаете столь грубых ошибок, — заметил Анри. Дюбрей вдруг улыбнулся:
— Что вы хотите сказать? Что я умышленно солгал вам?
Он сам произнес это слово; достаточно было ответить: «Да» — как просто; но нет, это невозможно: во всяком случае, не в ответ на эту улыбку, не в этом кабинете, не так.
— Я думаю, что вы приняли свои желания за действительность, не заботясь при этом о моих интересах, — сдержанно произнес Анри. — Трарье платил: на каких условиях, вам, по сути, было все равно.
— Возможно, я принял свои желания за действительность, — согласился Дюбрей. — Но клянусь вам, что, если бы я хоть на секунду заподозрил то, что затевал Трарье, я тут же отказался бы от него со всеми его миллионами.
В голосе его звучала горячая уверенность, однако Анри она не убедила.
— Сегодня же вечером я поговорю с Трарье, — сказал Дюбрей, — а также с Самазеллем.
— Это ничего не даст, — возразил Анри.
Ах, разговор пошел не по тому пути; нелегко перейти от слов, которые говоришь про себя, к тем, которые произносишь вслух. «Заговор!» Это показалось вдруг чудовищным, едва ли не безумным. Дюбрей, разумеется, никогда не говорил себе, потирая руки: «Я готовлю заговор». Если бы Анри осмелился бросить ему в лицо это слово, Дюбрей только улыбнулся бы.
— Трарье неуступчив, но Самазелля можно уломать, — сказал Дюбрей.
— Не уломаете, — покачал головой Анри. — Нет. Есть только одно решение: я все брошу.
Дюбрей пожал плечами:
— Вы прекрасно знаете, что не можете сделать этого.
— Тут вы будете удивлены, — возразил Анри. — Я это сделаю.
— И вы пустите ко дну СРЛ? Вы отдаете себе отчет, как обрадуются наши противники! «Эспуар» обанкротилась, СРЛ больше не существует! Хорошо, нечего сказать.
— Я могу отдать «Эспуар» Самазеллю и куплю себе ферму в Ардеше; СРЛ ничуть не пострадает, — с горечью возразил Анри.
Дюбрей с сокрушенным видом посмотрел на Анри.
— Я понимаю ваш гнев. И признаю свою вину. Я был неправ, поверив с такой легкостью Трарье, и мне следовало поговорить с вами еще в июле. Но я все сделаю, чтобы исправить это. — В голосе его появилась настойчивость: — Прошу вас, не упорствуйте. Мы вместе будем искать способ выйти из положения.
Анри молча смотрел на него: признать свои ошибки — это был ловкий ход, наилучший способ преуменьшить их; но о самой серьезной из них Дюбрей старательно умалчивал; на самом деле он виноват в беспримерном злоупотреблении доверием; взамен жертв, которых он требовал от вашей дружбы, он делал вид, будто дарит вам свою, а, по сути, не давал ничего. Следовало сказать ему: «Вам наплевать на меня и на всех остальных; ради любви к истине и к добру вы пожертвовали бы кем угодно: однако для вас истина — это лишь то, что думаете вы, а добро — то, чего вы хотите. Вы рассматриваете вселенную как свое творение, и нет ничего общего между человеческими созданиями и вами. Вы изображаете благородство, но это опять-таки во имя вашей собственной славы». Можно было сказать ему еще тысячу других вещей, но тогда пришлось бы захлопнуть за собой эту дверь и никогда уже не открывать ее. «Что мне и следует сделать», — думал Анри; как бы он ни решил относительно газеты, с Дюбреем ему надо было порвать немедленно. Он встал. Взглянул на сервировочный столик, книги, фотографию Анны и почувствовал себя подлецом. В течение пятнадцати лет этот кабинет был для него центром мироздания и его домашним очагом; здесь истина казалась бесспорной, счастье — важным, и право быть самим собой представлялось огромной привилегией. Он не мог вообразить себя идущим по улицам с этой оставленной позади дверью, закрытой навсегда.
— Все бесполезно; мы загнаны в угол, — произнес он безучастным тоном. — Я не упорствую, но при таких условиях мне уже неинтересно заниматься «Эспуар». Наверняка можно сделать так, чтобы мой уход не причинил вреда ни газете, ни СРЛ.
Читать дальше