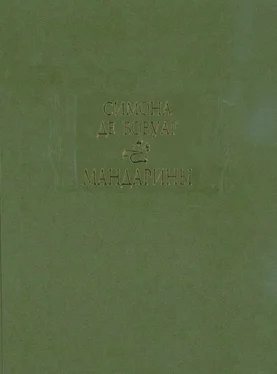Дюбрей больше не задавался никакими вопросами: он писал. И продолжал писать ежедневно. В этом отношении его ничто не могло поколебать. Однажды во второй половине дня, когда они обедали в деревне у подножия Эгуаль, разразилась такая сильная гроза, что опрокинулись велосипеды, унесло две сумки, а рукопись Дюбрея подхватил поток грязи; когда он выловил ее, слова стекали по пропитанным желтой водой листкам длинными черными полосами. Дюбрей преспокойно высушил бумагу и переписал наиболее пострадавшие куски, создалось впечатление, что при надобности он с такою же точно безучастностью заново переписал бы от начала до конца всю книгу. И, продолжая упорствовать, он, несомненно, был прав, ибо имел на то свои соображения; порой, глядя, как его рука скользит по бумаге, Анри ощущал в своей собственной кисти нечто вроде ностальгии.
— Нельзя ли прочитать несколько страниц вашей рукописи? К чему вы, собственно, пришли? — спросил Анри, когда они во второй половине дня сидели в одном из кафе Баланса, дожидаясь, пока спадет жара.
— Я пишу главу об идее культуры, — ответил Дюбрей. — Что означает тот факт, что человек не перестает говорить о себе? И почему некоторые люди решают говорить от имени других: иными словами, кто такой интеллектуал? {84} 84 ...кто такой интеллектуал? — Содержание книги Дюбрея весьма близко к работам Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм» (1946) и «Что такое литература?» (см.: Sartre 1946; Сартр 2000).
Не превращает ли его подобное решение в некую особую породу? И в какой мере человечество может распознать себя в том изображении, какое дает о себе?
— И к какому заключению вы приходите? — спросил Анри. — Что литература сохраняет свой смысл?
— Разумеется.
— Писать, чтобы доказать свою правоту! — со смехом сказал Анри. — Это великолепно.
Дюбрей с любопытством взглянул на него.
— Полагаю, вы вскоре снова начнете писать?
— О! Во всяком случае не сегодня, — ответил Анри.
— Сегодня или завтра, какая разница?
— Ну что ж, завтра, безусловно, этого тоже не случится.
— Но почему? — спросил Дюбрей.
— Вы пишете эссе, ладно; но сочинять в настоящий момент роман, согласитесь, что это хоть кого обескуражит.
— Не соглашусь! Я так и не понял, почему вы забросили свой роман.
— По вашей вине, — с улыбкой ответил Анри.
— Как это по моей вине! — Дюбрей с возмущением повернулся к Анне. — Ты слышишь?
— Вы призывали меня к действию, и действие отвратило меня от литературы. — Анри сделал знак официанту, стоя дремавшему у кассы. — Я хотел бы еще пива, а вы?
— Нет, мне слишком жарко, — сказала Анна. Дюбрей кивнул головой в знак согласия.
— Объяснитесь, — продолжал он.
— Какое людям дело до того, что лично я думаю или чувствую? — отвечал Анри. — Мои мелкие истории никого не интересуют, а большая история не сюжет для романа.
— Но ведь у каждого из нас свои мелкие истории, которые никому не интересны, — возразил Дюбрей, — вот почему мы узнаем себя в историях соседа, а если он умеет их рассказывать, в конечном счете это заинтересует всех.
— Начиная свою книгу, я тоже так думал, — сказал Анри, отхлебнув пива. У него не было ни малейшего желания объясняться. Он посмотрел на двух стариков, игравших в триктрак на краю красной банкетки. Какой покой в этом зале кафе: еще одна ложь! Сделав над собой усилие, он заговорил: — Беда в том, что любой личный опыт состоит из ошибок и миражей. Когда понимаешь это, пропадает желание делиться им.
— Не понимаю, что вы хотите сказать, — молвил Дюбрей. Анри заколебался.
— Предположим, ночью вы видите у кромки воды огоньки. Это красиво. Но если вы знаете, что они освещают предместье, где люди подыхают с голоду, огоньки теряют всю свою поэзию, превращаясь в обман. Вы скажете, что можно рассказывать о других вещах: например, о людях, которые подыхают с голоду. Но об этом я предпочитаю говорить в статьях или на митинге.
— Я вовсе не то хотел сказать, — с живостью возразил Дюбрей. — Эти огоньки, они сияют для вас. Разумеется, люди прежде всего должны есть, но какая польза в еде, если у вас отнимут все те мелочи, которые и составляют радость жизни. Почему мы путешествуем? Да потому что считаем: пейзажи — это не обман.
— Думается, наступит день, когда все это снова обретет смысл, — сказал Анри. — А пока есть столько других, более важных вещей!
— Но это и сегодня имеет смысл, — опять возразил Дюбрей. — Это имеет значение в нашей жизни, а следовательно, имеет значение и в наших книгах. — И с внезапным раздражением добавил: — Можно подумать, что левые обречены на создание пропагандистской литературы, где каждое слово должно поучать читателя!
Читать дальше