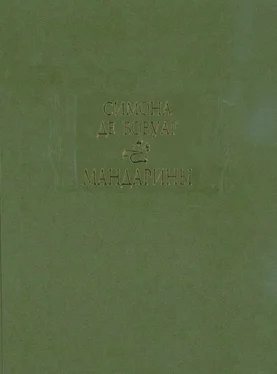— И у вас еще достает мужества писать! — сказал Анри, когда они уселись на берегу какой-то речки и он увидел, что Дюбрей вынимает из дорожной сумки свои бумаги.
— Это чудовище, — заметила Анна. — Он работал бы и посреди руин Хиросимы.
— Он и работает средь руин Хиросимы.
— А почему нет? — возразил Дюбрей. — Руины всегда существовали где-то.
Он схватил авторучку и надолго устремил взгляд куда-то в пустоту; наверняка не так-то просто было писать среди совсем свежих руин; вместо того чтобы склониться над бумагой, Дюбрей неожиданно сказал:
— Ах! Если бы они не лишали нас возможности быть коммунистами!
— Кто они? — спросила Анна.
— Коммунисты. Вы только представьте себе: эта бомба, какое чудовищное средство давления! Я не думаю, что американцы сбросят ее завтра на Москву, но, в конце концов, у них есть возможность это сделать, и они не позволят о ней забыть. Они себя уже не будут помнить! Это ли не момент, чтобы сплотиться, а вместо того мы опять повторяем все довоенные ошибки!
— Вы говорите: мы, — возразил Анри. — Но ведь начали-то не мы.
— Да, с совестью мы в ладах. А дальше что? — продолжал Дюбрей. — Какой нам от этого прок! Если произойдет раскол, мы будем за это в ответе наравне с коммунистами, и даже более, потому что они сильнее.
— Я вас не понимаю, — сказал Анри.
— Они отвратительны, согласен; но что касается нас, не вижу никакой разницы; как только они сделают из нас врагов, мы и станем врагами; бесполезно говорить: виноваты они; виноваты или нет, но мы будем врагами единственной большой пролетарской партии Франции; наверняка мы не этого хотим.
— Значит, следует уступить шантажу?
— Я никогда не считал сообразительными людей, которые готовы погубить себя, лишь бы не уступать, — сказал Дюбрей. — Шантаж или нет, но теперь нужен союз.
— Единственный союз, на который они искренне уповают, это роспуск СРЛ и вступление всех его членов в компартию.
— Может статься, что мы к этому придем.
— Вы могли бы вступить в компартию? — удивленно спросил Анри. — Но вас столько всего разделяет с коммунистами!
— О! Дело поправимое, — сказал Дюбрей. — При необходимости я сумею молчать.
Схватив бумаги, он принялся строчить слова. Анри разложил на траве книги, которые достал из своей сумки; с тех пор как он перестал писать, он прочитал кучу книг, заставивших его прогуляться по всему миру; в последние дни он открывал для себя Индию и Китай: в этом не было ничего веселого. Стоило лишь задуматься о сотнях тысяч голодных людей, и многие вещи начинали казаться не заслуживающими внимания. Возможно, его настороженность в отношении компартии тоже не заслуживала внимания. Более всего он ставил в упрек коммунистам то, что люди для них — все равно что неодушевленные предметы; если не доверять их свободе, их суждению, их доброй воле, то не стоит ими и заниматься; впрочем, ими почти и не занимались. Но такой упрек имел смысл только во Франции, в Европе, где люди достигли определенного уровня жизни, минимума самостоятельности и трезвости взглядов; когда же речь идет о толпах отупевших от нищеты и суеверий, имеет ли смысл обращаться с ними как с людьми? Их надо накормить, и все. Американское господство: это значит недоедание и бесконечное угнетение для всех стран Востока; единственный их шанс — СССР: единственный шанс для человечества избавиться от нужды, рабства и скудоумия — это СССР, и, стало быть, следует сделать все, чтобы помочь ему. Когда миллионы людей превращены нуждой в скотину, гуманизм — смешон, а индивидуализм — низок; как можно осмелиться требовать для себя высших прав: свободно обо всем судить, решать, обсуждать? Сорвав травинку, Анри стал медленно ее жевать. Раз уж в любом случае нельзя жить по своему усмотрению, почему бы вовсе не отказаться от этого? Затеряться внутри какой-нибудь большой партии, растворить свою волю в огромной коллективной воле: какой покой, какая сила! Стоит только открыть рот, и ты уже говоришь от имени всей земли, будущее становится твоим личным делом: это ли не причина, чтобы сносить многие вещи. Анри вырвал еще одну травинку. «Хотя сносить их изо дня в день мне будет очень трудно, — сказал он себе. — Нельзя думать то, чего не думаешь, желать того, чего не желаешь; чтобы стать хорошим борцом, нужна слепая вера, у меня ее нет. К тому же вопрос стоит совсем не так», — с раздражением подумал Анри. Он определенно был идеалистом. «Чему послужит мое присоединение: вот единственная конкретная проблема. Ни одному индусу оно безусловно не принесет ни единого зернышка риса».
Читать дальше