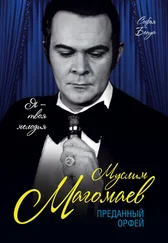Ян Отченашек - Хромой Орфей
Здесь есть возможность читать онлайн «Ян Отченашек - Хромой Орфей» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Хромой Орфей
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Хромой Орфей: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Хромой Орфей»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Хромой Орфей — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Хромой Орфей», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Три часа.
Появился Даламанек, глаза его горели лихорадочно, он, видимо, вернулся оттуда, и то, что он видел, вытряхнуло из него угодливую живость; но не мужественное спокойствие делало его движения более медленными.
- Не стойте так, ребята, - проговорил как бы совсем другой Даламанек, прошу вас... и никто... пока не должен покидать. Они еще тут... погубите вы меня, поймите, я ведь мастер...
- Что с ним? - спросил из-за спины Даламанека Павел.
Мастер обернулся, непонимающе заморгал.
- С кем - с ним? - просипел он; руки его взметнулись и упали, хлопнув по рабочему халату. - Не знаю... ничего я не знаю! Что с ним? Не спрашивай меня!
Слышишь? Движение вокруг цеха? Мы в западне! Топот сапог на лестнице к раздевалке, по коридору за дверью конторы; где-то далеко взревел автомобильный мотор, но, может, все это тебе только чудится. Шаги... Время от времени кто-нибудь из веркшуцев пробежит через цех и исчезнет... Тоска, ядовитое облако колышется под сводом крыши. Слышишь, как плещется время, но ничего не происходит. Больше никого не вызывали, никто не орал, понуждая к работе. Воздух молчит, во внутренностях роется крот, с наступающим утром в кости заползает холод. Чего они ждут?
Четыре!.. В дверях появляется знакомое лицо Гавела - веркшуца-певца. Он как вестник спасения. Огляделся слезящимися глазами, потом зашагал на своих тонких ножках вперед, по проходу. Весь он какой-то сникший, от него разит потом и пивом, ворот мундира расстегнут, обнажая морщинистую шею. Всем своим видом Гавел показывает, что наплевать ему на все. Он вошел в толпу серых и блекло-зеленых комбинезонов, принял протянутую кем-то сигарету, спрятал под фуражку с твердым козырьком; подергал себя за унылый нос, и видно было, что он готов говорить, что ему хочется говорить, более того: что он не может не говорить.
- Убрались камрады, - прикрывая рот рукой, бормочет он и идет, не останавливаясь, переступая через шланги, и провода. - Дело, видать, крупное... Не у нас... Жив ли? Не знаю... Вряд ли. Ему уже не много было надо. Я видел, когда его грузили в машину... Меня туда не пустили. - И с красноречивой ухмылкой он чуть ли не горделиво добавляет: - Старик мне не очень-то верит... Не зевайте!
Рассвет поколебался на грани ночи и дня, предвещаемый гомоном птиц. Стало быть, вот неизбежность: все идет своим чередом, повторяясь с тягостным безразличием, от мертвенной бледности надломившейся темноты веет мучительной тоской. Где-то Гонза прочитал, что чаще всего умирают на рассвете: ночь выбрасывает человека к его печальным берегам, обессиленного борьбой, беззащитного - погляди, мол, в последний раз, вот твой мир, смотри, как его очертания выплывают из мутных вод! Стонущий напев блюза в памяти... Стена с колючей проволокой поверху, за нею травянистая плоскость аэродрома, трубы и спящие киты-ангары, стены, провода и бетонные квадраты двориков, отдаленное ворчанье, шипенье... Все это неотъемлемая часть пугливой, карминной тишины.
Мир был скользкий от утренней сырости, и в нем рассветало. Гонза смотрел на рассвет недоверчиво и не сразу заметил, как тихонько подсела к нему Бланка. Очнулся он лишь от ощущенья чьего-то присутствия и увидел ее рядом. Неестественная бледность портила ее - он даже испугался.
- А я тебя искала, - проговорила она, помолчав и глядя в пространство. Гонза тоже смотрел куда-то вперед и не ответил. Тогда она спросила: - Я тебе не мешаю?
- Я рад, что ты разыскала меня.
Тут он вспомнил, что за все это время как-то почти не думал о ней, она не вмещалась в те чувства, которые опустошали его душу, но сейчас он не лгал: он действительно был рад, что она сидит рядом.
- Не будем об этом, ладно? Во всяком случае, не сегодня.
- Хорошо.
Тогда в нем заговорила обычная заботливость:
- Тебе холодно?
- Не чувствую... Ничего я не чувствую. Сиди, не двигайся!
Это она удержала его, когда он хотел стянуть с себя свитер, протертый на локтях.
Светало, как во времена потопа. Небо впереди озарялось, а предметы на земле как-то робко прятались в мышиные тени. Гонза слышал дыхание Бланки и, неизвестно почему, жалел ее. Жалел все живое. Вот она дышит, - с неосознанным изумлением подумал он в этот замерший миг, - дышит, пульсирует в ней горячая кровь, она живет! Он затрепетал. Им овладел какой-то непонятный, неведомый ужас и вместе боязливая радость и страх за эту ничтожную струйку воздуха, какое-то жалостное умиление тем, что вот дышит, живет девушка из утреннего поезда... И нестерпимо вдруг захотелось схватить ее в объятия, закрыть ей глаза перед чем-то, впиться в нее с возрастающим чувством безнадежности, слиться с ней, чтобы и он и она уж не были бы сами по себе, чтоб растаяли два горестно одиноких и нелогических "я". Падение... Лжешь, Душан! Гонза протер глаза и не сказал ей об этом ни слова.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Хромой Орфей»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Хромой Орфей» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Хромой Орфей» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.