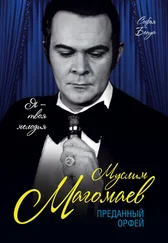...а теперь они лежат рядом на дне дождливой ночи, две выброшенные вещи, уже ничьи, закутанные в испуганную тишину, и он знает, что ничего не сделает и ничего не предпримет, он догорел, и в нем уже нет гнева, а только подергивающая боль, он истлевает ею, и есть в нем сухой, нечувствительный покой, который страшит, это покой камня и глины, покой пепелища.
Заснула? Он не слышал ее дыханья.
- Сегодня была у него?
- Да.
- Всего несколько часов назад?
- Не говори об этом!
- Спала с ним?
- Да.
Это заставило его пошевелиться, он отстранился на постели, но удержал крик.
- Я больше ничего не буду скрывать, - услыхал он.
- Осторожно, Горация! Ты видела "Дикую утку"?
- А что?
- При помощи так называемой правды можно и убить. Было такое дело.
Она возразила после некоторого раздумья:
- Нет, не верю. Что можно убить правдой, того вообще не существует.
- Может быть. Я уже ничего не знаю. Ни за что не поручусь. Знаешь, о чем я думал? Ужаснись! О том, что ты делаешь нечто такое, что и твой брат.
- Что же я могу делать? - горько вздохнула она. - Что такое я?
- Не знаю. Я придумал подходящее объяснение, понимаешь? Самообман. Пахнет юной романтикой. Это мне не приходило в голову. Достоевский говорит, что нет ничего более фантастического, чем действительность.
За окном позванивал железный карниз.
- Что будет с нами?
Она захватила его врасплох; об этом он не думал. Он промолчал, тело онемело в одном положении, ему казалось странным, что он вообще еще чувствует. Смешные мурашки бегают по рукам. Он что-то говорит.
- Мальчишкой я боялся ходить к мяснику напротив. Боялся не этого добродушного убийцу с огромными лапами, а того, что там висели на крюках страшные выпотрошенные туши. Я был очень нервным ребенком. Эти туши, понимаешь... Но ничего! Упрекать не в чем, собственно, все безумно логично и, может быть, правильно, я понял это, пожалуй, так, как человек, который понял, что должен умереть. Только, видишь ли, что-то во мне не понимает. Не может понять... Сам не знаю как следует, что это такое.
Встать, уйти! Так ты не можешь остаться, это бессмыслица. Он сообразил, что дом уже заперт и она волей-неволей должна проводить его до выходной двери, до проклятой ниши; его страшил этот путь!
Вдруг он почувствовал, что она прижалась к нему всем телом, почувствовал уступчивую упругость бедер и груди. Он не пошевелился, Обнаженная рука легла ему на грудь, пальцы отчаянно впились в плечо, он им не противился, но и не нашел в себе сил пойти им навстречу. Он уже не существовал.
- Я понимаю тебя, - слышал он ее шепот, - пойму и тогда, когда ты встанешь и уйдешь, и я тебя больше никогда не увижу. Но я боюсь этого... мы с тобой не виноваты, это война... Если она скоро не кончится, все будет напрасно. Я хотела бы быть с тобой одна на свете... Ты не знаешь, каково мне было все это время, когда я видела, как ты счастлив... Ты ничего не подозревал и мог быть счастлив... а во мне это уже было, эта ночь, она отравляла мне каждое мгновение... хотя мы вместе и плавали и обнимались... это было во мне все время - даже когда мы смеялись. Ты это замечал иногда, спрашивал, что со мной. Помнишь? Я знала, что придется платить, я торговалась сама с собой за каждый день, за каждую неделю, еще раз говорила я себе, хоть разок, еще увидеть его, почувствовать его губы... Если б ты знал, каково мне было сегодня вечером, когда мы расстались и мне предстояло это... Пока я тебя не знала, пока не полюбила тебя, это не было так ужасно, потому что я была одна, принадлежала только себе - так какое это имело значение? Я ведь получала анонимные письма, меня обзывали немецкой шлюхой, грозили, но даже это мне было не так больно, как все, что было потом... Вечный страх перед тем, что будет, ощущение грязи, сознание, что я недостойна тебя, что должна буду однажды причинить тебе такое... Если б ты знал, сколько раз я в душе отступалась от Зденека... и спохватывалась в последнее мгновение... и выхода не было... и нет... не избежать... Ты меня понимаешь? Обними меня, прошу тебя, если в тебе еще осталось что-нибудь, кроме отвращения, если ты не гнушаешься мной, обними!..
Он, уже не владея собой, прижимал ее к себе что есть силы, словно желал защитить ее, не позволить, чтоб ее вырвали у него из рук, слиться с ней в одно тело, спрятать ее в себе, он захлебывался от жалости, дышал ей в волосы, сцеловывал слезы с ее глаз, неловко гладил ее тело и не мешал своим слезам течь. Милая, - говорило в нем, - я не отдам тебя, никому больше не отдам, не бойся, я здесь, с тобой и не оставлю тебя, не плачь, не плачь, не могу больше!.. Были в нем головокружение и бессильный бунт, и были в нем печаль и ужас перед тем, что их обступило. Говори, говори, прошу тебя! Я хочу тебя слышать!
Читать дальше