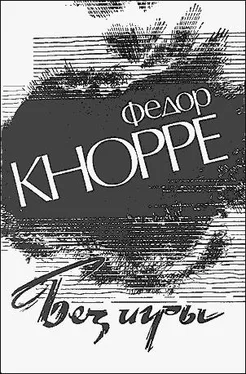— Юля, понимаешь, мы скоро приедем... Да, с мамой... Ее одевают, она уже одевается.
— Как, прямо сейчас?.. — в испуге внезапной нечаянной радости кричала Юля. — У нас даже занавески не повешены... И мы тут чай пьем! Мы тут все чай пьем... А на сколько? Неужто до после Нового года?
— Ну, зачем тебе трубку, мы же едем сию минуту... Это мама подошла!
— Юля, мы сейчас едем! — голос матери ликующий, совсем здоровый голос, звенящий от счастья. — Лезвин у нас? Ты его не отпускай! А кто еще?
— Мама, ты их не знаешь... Ну, да, Зина здесь с одним, Дымковым, и Галя, они собираются уходить.
— Неправда! — возмущенно сказала Зина.
— Кто у вас сказал «неправда»? — смеясь, спросила мама.
— Зина сказала.
— Пускай никто не уходит... Сколько времени я гостей не видала. Пригласи их в гости. У нас есть чем их угостить?
— Мама, скорей! — простонала Юля. — Приглашу! Только скорее!..
Едва она, не опомнившись еще, обернулась от телефона, Дымков вскочил:
— Где занавески? Стремянка я видел где. Не бойтесь, будет сделано, как в ателье.
— Это твоя мама? Она сюда приедет? — жадно вытаращив глаза, набросилась Зинка.
— Она вас всех приглашает в гости.
— Я и так не ухожу... Юленька, а как это: до после Нового года — я не понимаю. А потом?
— Что потом?.. Ну, не знаю... Возвращаться обратно в клинику.
— А потом? Юля?
— Кто знает, что бывает потом? Может быть, ее опять отпустят... Ты только подумай, она целый месяц будет дома, даже на Новый год! Она вернется в милую свою прежнюю жизнь! Мы надеяться не смели на такое счастье... Ой, как тут накурено...
Она, нетерпеливо дернув звякнувшим запором, настежь распахнула двойные рамы.
Морозный воздух хлынул в комнату. Далекие окна домов мягко светились через площадь сквозь медленно и косо плывущий поток мохнатых снежинок. Комната наливалась крепким диковатым запахом мороза и вольного снега, казалось, что нет за окном никакого города, а только белые холмистые поля, за которыми вдали едва мерцают чьи-то огоньки в горах.
Галя подошла и испытующе заглянула Юле в лицо.
— А я понимаю. Значит, сейчас все хорошо. Да?
— Да, да, они, наверное, уже садятся в машину... Господи, да они уже, наверное, едут!..
— Наверное. Я рада. — Она робко дотронулась пальцами до ее плеча. — Знаете, правда, я за вас очень рада.
Они остались вдвоем у окна. Стояли рядом, молча, понимая друг друга, как сестры, у которых на плечах одинаково тяжкий груз только начинавшихся жизней с их радостями, обманами и горем, нестерпимым и все же не вечным.
Зина, прислушиваясь к ним, просто попятилась от великого изумления. Все продолжая пятиться, наткнулась на Лезвина, быстро повернулась и ухватила его за пуговицу. Жарко дыша в самое ухо, страстно зашептала:
— Послушайте! С ума они сошли? Ведь ее в последний раз отпускают. Ведь это ужасно!.. Ужасно? Что же это за счастье?.. Да вы-то что? Тоже можете радоваться?.. Все с ума посходили!
— Да ведь вы и сами радуетесь, — не глядя на нее, сказал Лезвин.
— Я?.. Как это может быть!.. — плаксиво изумилась Зина. — Дымков, ты что-нибудь тут?.. Ты все понимаешь? А?
Дымков стоял на стремянке под самым потолком.
— Я занавески вешаю.
Голос его звучал твердо и строго. Зинка метнула на него испуганный взгляд и разом послушно оборвала хныканье.

В глубокой ночной тишине, сквозь сон расслышал неясный шум. Что это могло быть? Прикидывая разные зрительные образы к этому, слабо расслышанному, нераспознанному звуку, он представил себе приоткрывающуюся скрипучую дверь... колодезь?.. крик?.. — ничего не сходилось, и тут звук, скрипучий, ноющий, повторился. Сразу все стало так же ясно, как если бы он прямо у себя перед глазами все увидел: старую, сохнущую сосну на холме, похожую на скелет дерева с двумя живыми веточками у самой макушки. Ее длинный голый сук с начисто содранной корой, дотянувшийся до ветки соседней сосны. Этот скрипучий, кряхтящий звук дерева, трущегося о дерево, все объяснил: поднялся ветер с реки, вот и все. Тишина. На оконных рамах ровные белые полоски снега... Но тут же, разом он вспомнил: да ведь никакого снега тут и быть не может! Ведь еще осень, и светлые полоски на раме — это от лунного света. Осень, и ночь еще не кончилась.
Он полежал с открытыми глазами, отдыхая от снов, потом встал со своей постели — тюфяка, высоко набитого свежим сеном, — и босиком прошел за загородку к плите, вделанной в громадную русскую печь. Чиркнул спичку, поджег полоску березовой коры, тут же свернувшуюся трубочкой, подсунул ее под растопку и безучастно остался сидеть на корточках, еще сквозь полусон наблюдая, как побежал, потрескивая, березовый огонек и наконец громко застреляли, облизанные горячими язычками огня, мелко наколотые полешки растопки.
Читать дальше