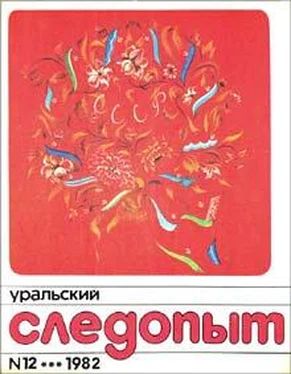Не ожидало и почему-то не чуяло сердце бабушки Эки, что так скоро кончится ее счастье. Сытое счастье было, вот и стало беспечным, позже говорила она.
Как покойно было на душе в то последнее предвоенное лето. В чуме достаток — еды хватало, одежды накупили. Все дети обзавелись своими чумами, в них копошились внуки и внучки, и у Кинкэ родился сын. Вот радость-то! Долго его ждали, три года Мэмирик не могла затяжелеть, думали, она ванггай [7] Ванггай — яловая важенка,
, но, к счастью, ошиблись. Пусть будет мальчишке имя Амарча, будет тезкой Бали, неплохой он человек.
В стойбище Суринне уже было несколько избушек, и самая главная из них — кочевой Совет. Красная материя всегда висела над ней. Поэтому, а может, оттого что самым большим начальником — председателем — был Кинкэ, этот домик казался бабушке Эки самым красивым. После отела оленей, когда они со стариком прикочевывали к стойбищу, или, как теперь называют, к фактории, бабушка Эки сама показывала место, где раскинуть чум — рядом с кочевым Советом. Не осудят — поближе к сыну.
Стояла самая макушка лета, месяц Иркин [8] Иркин соответствует июлю.
— месяц обдирания кожицы с рогов оленей. Палило солнце, гудел овод, тучами звенело комарье. В такое время можно и в чуме полежать, веками так заведено. Да разве улежишь в чуме, когда столько народу собралось. Надо сходить в гости, поговорить о житье-бытье, развести дымокуры, присмотреть за голозадыми ребятишками, чтобы не съели их пауты и комары. Да мало ли дел. И главное, надо дождаться илимок с грузами, их должны притащить русские.
Первыми всполошились собаки, забегали олени, а потом раздались крики:
— Плывут! Плывут!
Все высыпали на берег речки. Шумно стало, крики, смех.
Русские мужики и даже молоденькие ребята, все в рваной одежде, в разбитых ичигах, устало тянули на длинной веревке большую, затонувшую по самые борта лодку.
— Эх-хэ, бедняги, вот тоже работа… — посочувствовал кто-то.
— Ээ, — согласилось несколько голосов.
— Наши мужики не выдюжили бы!
— Точно. Не умеют так, как русские.
— Воспитывают их так, поэтому они сильные, как кони.
— Вон разве только Костака сдюжил бы, он амикана борет, — раздался громкий смех.
Огромный, как медведь, Костака частенько был предметом шуток, Ни один верховой олень не мог поднять его, все время пешком приходилось кочевать.
Между тем русские подошли, некоторые были знакомы.
— О, Аркашка!
— Мишка! — полезли жать им руки.
Один из русских, незнакомый, видно, главный среди них, поднял руку:
— Товарищи, прошу тишины. Кто здесь Кинкэ Хэйкогир?
— Здесь, здесь, — вытолкнули Кинку.
— Надо собрать митинг. Я Логинов, бригадир, партиец.
Откуда-то вынырнул Мада:
— Дорова! Ты моя мордам знаешь, — сказал он по-русски.
Кто понял, засмеялись, а Логинов как-то печально улыбнулся.
— Познакомимся еще… А сейчас, товарищи, надо провести митинг. Уже три недели, как идет война…
Бабушка Эки не помнит, что потом было. Что-то говорил Логинов, держал слово Кинкэ, еще кто-то. В голос ревели русские бабы, потом завыли и наши. Принесли из кочевого Совета стол и в три руки записывали добровольцев…
На этой же илимке через два дня уплыли молодые парни и мужчины. Уплыли Кумонда, Кутуй и Кинкэ.
— Эни, береги Мэми и сына. Пусть Амарча постигает язык грамоты, светлей будет жизненная дорога… — таков был наказ Кинки.
А потом были бумажки… Плакала, горько плакала бабушка Эки втихомолку, чтобы никто не видел и не слышал, а когда пришла последняя, на Кинкэ, она уже не могла плакать. Старик, тихий Колокон, встретил эту весть как подобает мужчине. Письмо получили зимой, когда приезжали за мукой. Прочитать попросили Ганьчу Лантогира, подростка. Ганьча прочел по-русски и отвернулся. Ни слова не обронил Колокон. Набил махоркой трубку, подцепил палочкой уголек из костра, раскурил. Потом, запрокинув к конусному отверстию чума исхудалое, пожелтевшее лицо, обросшее редкими волосами, долго смотрел. Устало встал и тихо проговорил:
— Снег будет, аргишить надо.
А сердце бабушки Эки будто остановилось. Она упала на шкуру, как неживая. Хотела плакать, а не могла.
Пулей вылетел Ганьча из чума и закричал:
— Бабушка Эки умирает!
Прибежали люди. Лицо бабушки Эки без кровинки, как выделанная ровдуга.
— Поплачь, Эки, поплачь, — уговаривали ее, но она молчала и лишь потом, когда кто-то догадался дать ей чаю, она зашептала:
Читать дальше