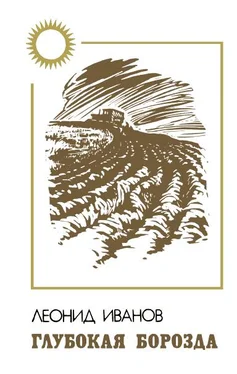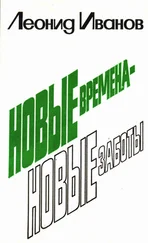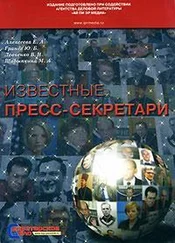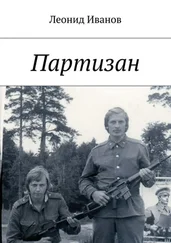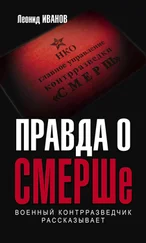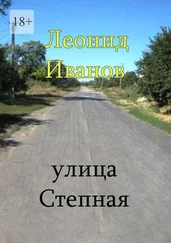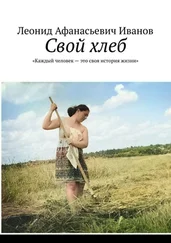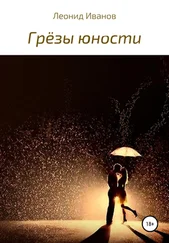В справке, имевшейся у Павлова, приведен любопытный пример: в прошлом году в Калужской области многие хозяйства получили от продажи каждого центнера зерна до восьми рублей чистой прибыли, а в Калининской области многие оказались даже в убытке. К тому же и государству зерно, купленное по тринадцати рублей за центнер, не приносит большой прибыли.
— Что же ты предлагаешь? — грубовато спросил Егоров.
— Что предлагаю?.. Зачем государству платить по тринадцати рублей за центнер пшеницы, если оно может закупить по пяти или — как у нас в Сибири — по шести?
— Что же: свернуть посевы зерновых в нечерноземной зоне?
— Не зерновых, а продовольственных культур, — возразил Павлов. — Сеять больше кормовых и фуражных, развивать на этой основе молочное и мясное животноводство. У них там молоко, например, почти во всех хозяйствах прибыльно.
— А ты откуда это знаешь? — усомнился Егоров.
Павлов достал записную книжку, назвал еще несколько фактов: в нечерноземной зоне молочное животноводство прибыльно, а на Кубани — убыточно. Пшеница же у южан дает самую большую прибыль.
Егоров пожевал-пожевал губами, потом небрежно спросил:
— И что же дал уже твой эксперимент?
— Есть кое-что, — оживился Павлов. — В обоих районах подсократили убыточные отрасли, специализация стала более углубленной…
— Ну, пробуй, браток, — поднялся Егоров. — А я подготовил статью — газета попросила, корреспондента подсылали ко мне, ученых хочу покритиковать. Бывай здоров…
«Так вот почему Егоров говорил так книжно, — подумал Павлов. — Статья-то, видимо, готова».
Проводив гостя, Павлов задумался. «Неужели Егорова выдвинут в Москву?» Раньше Павлов даже радовался этому выдвижению: сибиряк будет ведать важными делами. С людьми, знающими условия Сибири, легче найти общий язык. Но теперь полезли в голову совсем уж безрадостные мысли: область под руководством Егорова славы не имела, провалов же — и с урожаем, и с животноводством, и даже с сельскохозяйственной наукой — было более чем достаточно. «Неужели могут его выдвинуть?» — который раз спрашивал себя Павлов.
За те пять дней, что Павлов провел в Москве, в области посеяли более сорока процентов зерновых. Никакого срочного вмешательства в ход кампании не требовалось, поэтому, пробыв в обкоме всего один день, он уехал в северные районы — предстояло собрание актива по обсуждению решений майского Пленума ЦК, а они касались прежде всего северных районов: там намечались основные работы по осушке болот, по раскорчевке кустарников, там нужно создавать новые лугомелиоративные станции. А когда вернулся, вопрос весеннего сева можно было, что называется, снимать с повестки дня. Никогда еще в жизни Павлова посевная не проходила столь организованно.
Но не совсем спокойно на сердце у Павлова.
Перед отъездом из Москвы Павлову довелось беседовать с весьма ответственным работникам, к тому же ученым. Он упрекал Павлова за то, что в крае увлеклись чистыми парами, отвели под них почти пятнадцать процентов пашни.
Позднее Павлов не раз вспоминал об этой беседе, и многое было ему непонятно. Разве решения мартовского Пленума не ясны? Разве они не открывают простор для творчества людей деревни? Влиянием этих решений главным образом и можно объяснить первые успехи в сельском хозяйстве. И почему тогда ответственный товарищ высказывает иную трактовку тех же самых документов?
Этими своими раздумьями Павлов поделился с Сергеевым, когда тот пришел к нему с наметками мер по осуществлению решений майского Пленума ЦК.
— Бросьте вы слушать этого ученого! — с неожиданной горячностью воскликнул Сергеев. — Это же путаник. Удивительно, как он удержался на высоком посту…
Эта вспышка была совершенно неожиданна для Павлова. Он знал Сергеева как очень уравновешенного, выдержанного человека. И вдруг… Но Сергеев продолжал уже более спокойным тоном:
— Если хотите, я принесу наглядную характеристику этому ученому.
Тучный Сергеев быстро вышел и вскоре вернулся. Тяжело дыша, положил перед Павловым несколько листков бумаги, сказал, что следит за трудами этого ученого, сопоставляет его прежние высказывания с нынешними. На листках были сделаны выписки: на левой стороне — из книги ученого, вышедшей в середине 1964 года, а на правой — из его статьи в журнале, опубликованной в середине 1965 года.
Павлов читал, и нехорошее чувство закипало в нем. Вот что писал ученый в своей книге: «Например, кукуруза и овес относятся к одному семейству злаковых, но первая культура по своей продуктивности при оптимальном температурном режиме выше второй примерно в три раза. Следовательно, при благоприятных условиях, то есть при достатке тепла, пищи и влаги, растения кукурузы на единице площади благодаря высокому росту и сильному развитию листовой поверхности могут ассимилировать значительно больше солнечной энергии и углекислоты, чем овес».
Читать дальше