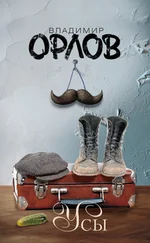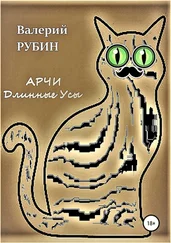С улицы в комнату проникал слабый снежный свет, так что можно было даже осмотреться. Никогда в жизни мне не доводилось видеть такой запущенной, неубранной комнаты. Повсюду валялись шпильки, гребенки, шнурки, коробочки с таблетками, надорванные почтовые конверты, скомканные платья и хрустящие под ногами осколки флаконов. Дверь гардероба была сорвана с петель, и внутри болтался только мешочек с лавандой. Над кроватью криво висел выцветший отрывной календарь с цифрами 1938. Все листки были оборваны. Одурев от запахов нафталина, пудры, лекарств и духов, я вышел и, переведя дыхание, закрыл за собою дверь. Затем спустился вниз.
Из столовой пробивался свет. Я заглянул в замочную скважину. Гости барона в полном сборе сидели вокруг керосиновой лампы и сосредоточенно читали те самые пожелтевшие охотничьи журналы, из-за которых утром было столько волнений. Отсутствовал лишь дантист Лединек; насколько я его знал, он, видимо, отправился спать, чтобы сохранить силы к полуночи. Господин Янкель Фрейндлих сидел в сторонке, подперев голову руками, и неподвижно смотрел на шахматную доску, на которой еще стояли две пешки и короли. Я ждал, не скажет ли кто-нибудь хоть словечко, но все молчали. Тогда я надел пальто и вышел во двор.
Дул резкий ветер, он швырял в освещенное кухонное окно хрустящие кристаллики льда и гонял по двору рваные клочья поземки. На гумне горел свет. Проходя мимо, я сквозь настежь открытые ворота увидел нескольких батрачек, которые в своих праздничных платьях еще раз, дочиста, мели пол. С потолка свисали бумажные гирлянды, а на сдвинутых в сторону веялках и молотилках были укреплены свечи в садовых подсвечниках и пестрые фонарики. Батраки, стоя, грели руки над коксовой жаровней; все молчали.
Перед свинарником я остановился. Я хотел помолиться снаружи, а потом войти и посмотреть, что мне ответят свиньи. Я был страшно взволнован, сердце стучало так, что я едва мог дышать. Тогда я собрался с силами, закрыл глаза, прижался лбом к двери свинарника и сотворил молитву. Я молился за всех: за Фриду, за старую баронессу, за всех, кроме дантиста Лединека. Я еще немного выждал, пока молитва подействует и пока свиньи спокойно обдумают ответ, а потом вошел.
Мертвая тишина царила в свинарнике. Пронзительный свет голых лампочек еще ярче прежнего ложился на свиней. Уткнув чуткие пятачки в решетку кормушки, они неподвижно стояли в своих загородках, и только по их черным, отливающим сталью шкурам то и дело пробегала дрожь. Заглянуть им в глаза было невозможно, казалось, они своими вислыми ушами нарочно закрывают их, боясь увидеть что-то ужасно страшное. Растерянный, я бегал вдоль загородок, надеясь, что хоть одна поведет себя иначе. Но нет, все они были едины.
Тогда я сделал последнюю, отчаянную попытку. Подошел к самой толстой из всех и, вскарабкавшись на решетку, погладил ее. Но она даже не шелохнулась. Я перегнулся пониже и шепнул ей в ухо несколько любезных слов, и тут произошло следующее: письмо баронессы выскользнуло из-под пальто и упало в кормушку перед самым свинячьим рылом. Я сразу спрыгнул вниз и попробовал достать письмо, но свинья уже его учуяла и принялась жевать, а я смотрел, как оно медленно исчезало за ее клыками.
Тут я окончательно растерялся, рухнул на перевернутую тачку и стал тупо смотреть себе под ноги. В Берлине была хотя бы Фрида. Правда, она жила на нелегальном положении, но все-таки говорила, что если нам уж очень плохо придется, то она, конечно, сделает для нас все возможное, как сейчас делает для товарищей по партии. Меня вдруг охватила безумная тоска по ней. Наверное, она и теперь могла бы помочь, Фрида нам всегда помогала. Но здесь?.. Кто здесь может помочь? Свертла!- - мелькнуло вдруг у меня в голове. Свертла может помочь мне, ведь она тоже боится за барона. Я вскочил и бросился к ее каморке. Там ничто не шевельнулось в ответ на мой стук. Я окликнул ее по имени и еще раз постучал. Ничего. Тогда я вошел.
Это была самая чистая и прибранная комнатушка, какую только можно вообразить. Нигде ничего не валялось, все педантически расставлено по своим местам. От такого порядка делалось даже немножко жутко. У медвежонка, сидевшего на подушке, и то руки были вытянуты по швам. Над умывальником, точно посередке, красовался только недавно повешенный, сверкающий новизною пестрый отрывной календарь, все листки его еще были целы, и на нем золотом стояло: 1939. На дверце шкафа висело праздничное платье Свертлы из грубого синего, слегка выцветшего ситца, а под ним, ровненько, носок к носку, стояли башмаки, неуклюжие, но начищенные до блеска.
Читать дальше