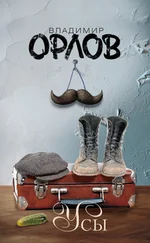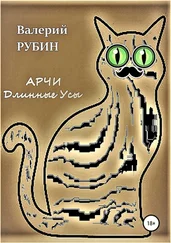Нет, расстаться с Генрихом нам было нелегко. Но отец безусловно был прав, утверждая, что чем прочнее твоя сердечная привязанность к кому-то, тем выше ты должен держать голову, решась на разлуку с ним. "Суметь вернуть любимому свободу, - сказал отец, - и значит любить, кем бы он ни был, Генрихом или Лукрецией".
О ТЕХ, КОМУ БИЛЕТА НЕ ДОСТАЛОСЬ
Подумайте только: тот самый стриж, который еще в июле прятался под крышей многоквартирного дома с подрагивающим мотыльком в клюве, в сентябре уже проносится над широкими спинами бегемотов и зубчатыми загривками крокодилов. И журавль тоже. Только что под крыльями его простирались поросшие соснами - родные тихие лесные озера - а через несколько недель он летит к верховьям Нила над дрожащей от зноя пустыней. Или хоть кукушка. Или иволга. Или скворец. Все они ведут на зависть удачно распределенную по времени двойную жизнь: летом - у нас, зимой - у феллахов. Но все-таки, хоть сумасшедшее сердце и готово выпрыгнуть из груди, когда осенний ветер гонит прочь от родимых мест вереницы перелетных птиц, все-таки любовь моя всегда со мной; она принадлежит тем, кто остается; тем, кому не хватает сил, чтобы преодолеть Пиренеи, море или Сахару; тем, кто стойко переносит все невзгоды; тем, кому не досталось билета в теплые края.
Вот, например, воробей. Правда, его мало кто ценит по достоинству. Говорят, он слишком настырный, слишком нахальный. Но у кого он этому научился? Да у нас же. Ведь воробей сделал одну-единственную ошибку: доверился людям и последовал за ними в город. Решение, сомнительность коего не оправдывается даже тем, что с тех пор воробья стали причислять* к категории окультуренных птиц. Хороша культура, если она отрекается от самых стойких своих приверженцев! И чем, собственно, воробей отличается от нас? А ничем. Делает он все то же, что и мы; он конформист; он знает свое место это можно пронаблюдать у любой навозной кучи. Откуда же взялось наше отчуждение? Скорее уж тогда надо признать в воробье падшую невинность. Не преврати мы цветущие дикие луга в застывшие асфальтовые озера, воробей еще и по сей день жаворонком взмывал бы над полями и лесами и своим ясным голосом славил бы господа. Ярмо пролетария наложили на него мы; сам он никогда не сбился бы с панталыку. Ведь он принадлежал с незапамятных времен к птичьей аристократии.
А вот еще королек. Одним прицельным чихом можно разнести в пух и прах целую стаю этих пичуг. Именно королек - самая маленькая наша птичка, золотистая пылинка, покрытая перьями, щебечущий гигантский шмель. В лесу ему страшно оставаться одному; он объединяется в мощные стаи. Так и щебечется легче, так можно даже добиться сатисфакции у снисходительно подмигивающей неясыти, всем скопом и в унисон осыпав ее бранью. Люди в детстве часто принимают корольков за марципановые фигурки, какие дарят на рождество; смущает только их умение пищать. Птички эти совсем не робки; но, судя по всему, в прямой контакт с нами вступать они вовсе не стремятся. Во всяком случае, стараются держаться от нас на расстоянии метров полутора. Но это вовсе не исключает внимания к нам вообще, потому что королек часто бросает на нас искоса молниеносные взгляды, но обычно в них нет нескромного любопытства.
Или сорока. Попробуйте рассмотреть ее как-нибудь с близкого расстояния, когда она не замечает, что за ней наблюдают, и вы поймете, насколько она превосходит саму себя своими качествами. Я говорю об этом в связи со всем комплексом отрицательных черт, которые вы- кристаллизовались в сорочьей душе и теперь от навязчивости, через ярко выраженную клептоманию доходят до страсти к ограблению чужих гнезд. Добавьте к бремени грехов еще и груз нечистой совести, которую ей приходится таскать за собой, и тяжеловесный полет этой птицы становится вполне объяснимым. Но это же позволяет понять и причину самоуничижения сороки. Ведь она все в себе ненавидит: и прусский мундир, и хриплый фельдфебельский голос, и алчный профиль полковой маркитантки. Однако одновременно этим объясняется и ее заносчивость; она лжет и шумит, надеясь, что хоть таким образом ей удастся вызвать к жизни лучшую часть своего внутреннего "я", о существовании которого напоминает ослепительно-белое оперение на груди и которое, может быть, и вправду небесного происхождения; но, с другой стороны, длиннейшие перья отливающего синевой мечевидного хвоста заставляют подозревать, что изготовлен он из стали адского проката. Тут, возможно, и кроется причина ее неуверенного полета, дергающийся то вверх, то вниз силуэт птицы напоминает летающих драконов из индонезийского театра теней.
Читать дальше