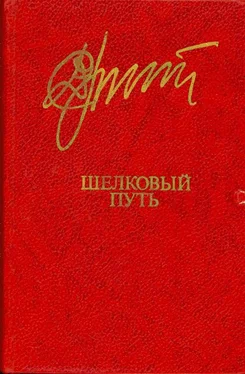— Дядя болен, а я тут… болтаюсь.
— Тьфа-тьфа! Слава богу, сам-то хоть здоров. Сейчас, ласковый, после чая сразу поедем. Старик уже пошел за Актанкером.
Бедная тетушка, видя мое волнение, забеспокоилась. Повела меня в юрту. В той же красивой чаше подала кумыс. Но я пить не мог. И к чаю не притронулся. От коротышки я узнал, что Актате ночью без конца вставала и переворачивала турсук. Сегодня он лежал на деревянном полу, привязанный к решетке юрты. Актате развязала сыромятный ремешок, приоткрыла горловину, дала кумысу глотнуть прохладного утреннего воздуха. Потом, снова завязав, обернула турсук влажным полотенцем и запихала в коржун — переметную суму,
— Еще бы одну ночку — и славный получился бы кумыс, — заметила Актате.
Я услышал в ее голосе печаль.
— Ничего! Пока доедем — пробултыхается, в самый раз будет, — пытался я ее успокоить.
— Что ты, ласковый! — возразила тетушка. — От долгой качки кумыс становится норовистый, злой. А тот, что закисает в тишине, сам собой, — спокоен, покладист.
Актате выдвинула нижнюю полку подставки, вытащила прямоугольный инкрустированный ларец, достала из него маленький, с ладонь, узкогорлый кувшинчик. Он был выточен из джиды и выкрашен в сплошной красный цвет. В лучах солнца пылал огнем. Ни единой щербинки по краям. Привлекал внимание плотный, выпуклый сучок, нарочно оставленный умельцем. Без него — блестящего глазка — кувшинчик потерял бы всякую прелесть. Редким умельцам удается сохранить естественную красу дерева. Зато вещь обретает благородство и непреходящую ценность, А имя народного умельца становится легендой.
Я вспомнил: в ауле поговаривали, что Актате хранит кувшинчик, из которого когда-то пил кумыс прославленный акын Нартай. Наверное, я видел сейчас тот драгоценный сосуд. Однако спросить не решился. Актате бережно завернула его в рушник и тоже затолкала в коржун…
Солнце едва поднялось из-за гор, когда мы выехали из аула табунщиков. Мы отпустили поводья, и кони бежали ровной рысцой по знакомой дороге. В пути Актате все время старалась держать турсук в теневой стороне. К обеду мы добрались до Архарова родника. Спешились. Актате опустила турсук в холодную воду, потом еще раз дала кумысу подышать прохладным воздухом, а перед тем, как завязать горловину, сказала:
— Понюхай, ласковый. Запах-то какой!
Я наклонился к горловине турсука, и острый запах прошиб, пронзил меня, даже слезы хлынули из глаз. Густой аромат, похожий на запах зрелой дыни, распирал грудь, бодрил, возбуждал. «Такой кумыс и мертвого подымет», — подумал я. Актате заметила мой восторг, однако сказала сдержанно:
— С восходом Венеры я налила в турсук немного гусиного жиру.
Она намочила полотенце, обвернула турсук и вновь положила его в переметную суму. Мы поехали дальше.
Вечерело. С выпаса возвращался скот. В большом ауле центральной усадьбы колхоза было шумно, многолюдно. В воздухе висела густая пыль. Лошади начали пофыркивать. Голоногий малец, спотыкаясь, вприпрыжку ворвался в отару и отогнал десяток овец и коз. Они испуганно шарахнулись и рассыпались, точно баурсаки-пончики на дастархане. Послышалось жалобное блеяние ягненка-сироты. Измученные духотой, жарой и пылью, овцы мелко-мелко перебирали копытцами и спешили к колодцам и по домам, в прохладный, привычный хлев.
Впереди, подшуровывая пятками толстобрюхого осла, ехал пастух. Увидев нас, он вместо приветствия снял войлочную шляпу, потом стянул прилипшую к черепу засаленную тюбетейку. От бритой головы шел пар. А где-то все тоскливо блеял, надрывая душу, ягненок-сироту. Мы приближались к высокому, с огромными воротами дому дяди. И вдруг… меня пронзила жуткая догадка и в глазах моих потемнело. Возле дома толпился народ. Я тихо вскрикнул и пополз с лошади.
Ягненком-сиротой был я…
…Актате, рыдая, вылила кумыс из турсука на свежую могилу дяди.
Прошли годы. Я часто тоскую по Актате и ее кумысу. Тот далекий драгоценный сосуд — маленький кувшинчик из красной джиды, с единственным сучком-глазком — и теперь еще, говорят, бережно хранится в инкрустированном ларце белолицей тетушки.
ЧАБАН И ЛАСТОЧКА
Перевод Г. Бельгера
Я еду в горную долину. Мой конь с трудом взбирается по крутизне перевала. Извилистая тропинка тянется все выше, выше. Гладкие камни блестят на солнце серебром. Потому, наверное, и назвали предки перевал Серебряным. Взберешься на его вершину — сердце к горлу подкатит. Глянешь вниз, в пропасть, — голова закружится и в глазах потемнеет. Вот какая высота!
Читать дальше