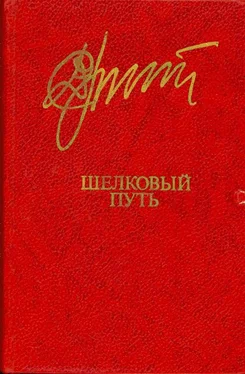КУМЫС
Перевод Г. Бельгера
— Иди, дядя зовет!..
Я бросился в гостевую комнату и на пороге столкнулся с дженге. Холод пронзил меня: в глазах ее стояли слезы. Видно было, как она крепилась: одинокие слезинки дрожали под ресницами, не решаясь скатиться по щекам. В комнате было прохладно, сумрачно. Окна распахнуты. Тюлевые занавески от легкого дуновения чутко колыхались. В середине, на полу, на широченной чистой постели, распластавшись лежал мой дядя. Значит, не по душе пришлась кровать, «Скрипит, мозг сверлит», — говорил он на днях. Дяде едва перевалило за пятьдесят, и был он могуч телом, словно палван — борец. А теперь на глазах таял… В большой деревянной чаше у изголовья тускло поблескивал кумыс. Его купили на базаре — молоко кобылицы-трехлетки, — но дядя опять не притронулся к кумысу. Кисловатый запах щекотал мои ноздри. Дядя настаивал, чтобы чаша с кумысом непременно стояла у его изголовья. Должно быть, терпкий дух напитка напоминал ему невозвратную лихую юность, гулкий цокот копыт по безбрежно раскинувшейся степи, буйный кокпар, от которого, бывало, кровь вскипала в жилах. Запах кумыса навевал давно прошедшее и ласкал душу…
Год назад подстерегла дядю хворь. Закаленный в недавно отгремевшей кровавой бойне, а потом — в изнурительных заботах и хлопотах послевоенного присырдарьинского аула, он долгое время не показывал виду, не поддавался болезни. Бывает, однако, стоит в пустынной степи вековой карагач. Разная нечисть упорно подтачивает его изнутри. Но он десятки лет сражается за жизнь и внешне почти не меняется. По жилам-сучьям его весной текут последние соки, а карагач грозно шумит листвой. Но постепенно угасает в нем жизнь, и лишь редкие почки набухают на его ветвях. Наконец дерево — высохшее, затрухлявевшее — умирает; торчит в пустыне голый, черный остов, воздав к небесам искривленные сучья. Стоит обугленное, скорбное, точно караульный на караванной дороге… Сейчас дядя похож на такой карагач. Кто знает, где притаился и какой он, этот червь смерти, неотвратимо подтачивающий богатырское тело. Ясно одно: подлая хворь одолевает его.
Уже заболев, дядя не отлынивал от колхозной работы. Провел благополучно весенний расплод овец, перегнал скотину на летовку, на прибрежные тучные луга, начал подумывать о сенокосе, об осенних заботах, старательно отгонял даже мысли о болезни. От разных уполномоченных не было отбоя, дядя мотался с ними по бригадам, фермам, стойбищам животноводов. И только мы с дженге догадывались, как мучается дядя, как крепится из последних сил. Остальные в ауле и не подозревали ничего, пока он не свалился в постель. На гулянках, тоях, бывало, над ним подшучивали: «Оу, ты что не пьешь? Муллой, что ли, решил стать?.. Эдак ты, брат, скоро разбогатеешь!..» Дядя отмахивался от немудреных острот аульных джигитов и неизвестно, сколько бы еще продержался на ногах, словно тот степной карагач, если бы не нагрянула беда нежданно-негаданно в лице придурковатого сына-тракториста горлопана Ауэльбека. Нализался этот шалопай, направил свой трактор на паром, ну и свалился в реку. К счастью, везуч оказался: побултыхался, воды наглотался, а все же выкарабкался, вылез. Новехонький трактор остался под водой, под илом. Дядя пришел в тот вечер домой хмурый, подавленный, как бы невзначай обронил, что никакого интереса к работе не осталось. А потом вдруг стал поговаривать, что пища, которую с таким старанием готовила тетушка, совершенно якобы безвкусна. И было непостижимо, непонятно, как дядя все реже и реже дотрагивался до мягкой, жирной казы, до острой, густо поперченной тушпары, к духмяному чаю. Потом он жаловался на отсутствие аппетита, а вскоре заявил, что пища в горле комком застревает. Последние два месяца он уже и не вставал с постели.
— Далабай… дорогой мой… — тихо сказал дядя.
Я опустился на колени. Руки его высохли, потемнели. Голубоватая жилка у запястья билась еле заметно. Глаза глубоко запали, но сейчас были чисты и странно блестели. Я обрадовался: наверно, дяде стало лучше.
— Поезжай к Актате… привези турсук кумыса.
В голосе дяди послышалась легкая дрожь. То, может, прорвалась тоска по невозвратному или робкая надежда всколыхнула сердце — не знаю, только я тоже разволновался. У изголовья стояла полная, нетронутая чаша кумыса, а дядя посылал меня к устью Куланчи, в урочище Каратау, за кумысом из аула табунщиков, находившегося от центра на расстоянии дневного пути! Конечно, я знаю, велика разница между кумысом городским и степным. Городской кумыс жестковатый, водянистый. Ведь и свежее кобылье молоко, и закваску, и уже готовый кумыс, пока его не продадут, хранят в жестяной или стеклянной посуде. Отсюда и привкус. Я так считаю. Желание больного вселяло надежду. Может, и в самом деле степной кумыс принесет дяде облегчение. Я тут же вышел. В передней тетушка охлаждала зеленый чай. Она встревоженно-пристально уставилась на меня, и я заметил все те же слезинки на ресницах. Я объяснил, что еду в горы к Актате за кумысом. Тетушка не ответила, только вздохнула: «Милый ты мой, опора наша…»
Читать дальше