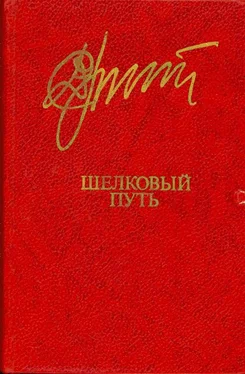За свою жизнь ему удалось вывести на чистую воду немало хапуг и рвачей. И был совершенно убежден, что преследует их везде и всюду, а выходило наоборот: они его всюду опережали, выслеживали на каждом углу и всячески заманивали в свои липкие сети. Делалось это поразительно примитивно. Отправляется он, скажем, с женой на вечернюю прогулку. У перекрестка откуда ни возьмись лихо тормозит голубая «Волга», и распахивается дверца: «Добрый вечер, дорогой Секе!.. Куда направились, Секе? Садитесь, Секе, я мигом доставлю вас хоть на край света. Поверьте: быть вашим извозчиком — для нас великая честь, Секе…» Не всегда устоишь перед таким натиском. Хоть и с тоской в глазах, а соглашаешься. Случалось, махнув на все рукой, он отправлялся с друзьями-приятелями в ресторан. Все бы ничего, да официант подозрительно услужлив, аж в лепешку расшибается. В одно мгновение появляется и заливная севрюга, и зернистая икра, и заяц, жаренный в сметане. В бокалах пенится шампанское, в хрустальных рюмочках червонным золотом отливает коньяк. Пай-пай! Душа ликует, голова сладко кружится. А тут еще и ароматный кофе в ноздри бьет. Удоволенный, Семетей достает деньги, просит счет. Боже, что делается с официантом?! Он закатывает глаза, вертит шеей, руками-ногами отмахивается. «Нет, не-е-е-т… почтенный! Ни за что! Все оплачено! Ни слепой копеечки с вас не возьму. Что вы, что вы? Обижаете, почтенный. Зачем нам мелочиться?!» Выходит, и тут его опередили рыцари личной корысти.
Как-то заглянул Семетей в мебельный магазин в своем же районе, хотел купить вешалку. При выходе колобком подкатился заведующий. В халате, затянутом ремнем. Рукава засучены. Масляные глазки так и шныряют, так и шныряют. «Секе, — в ухо поет-нашептывает, — не беспокойтесь. Сам вечером все доставлю… Немедля сдайте меблишко в комиссионку. Все обновим, Секе… Есть импортный сервант. Чудо! Французские бра… арабские кресла… польский кухонный гарнитур… немецкие… Секе, Секе…» Тьфу! Еле ноги унес…
С тех пор он опасался выходить с женой на прогулку, и ресторан обходит за три квартала, и в магазин не заглядывает…
Он испытывал блаженство от упругих, приятно покалывающих тело теплых струек циркулярного душа. Он знал, что время вышло, но продолжал стоять, жмурясь, в кабине. Минеральная вода, вырываясь из неведомых недр земли, ласково омывала, окатывала тело, пузырилась на коже, пенилась. Казалось, земля одаривала его своими живительными соками, вливала в него силу. Он действительно уставал в последнее время. Знакомый литератор любил повторять: «У змеи яд на языке, у человека — внутри». Должно быть, преуспевающего, удачливого джигита преследуют людская зависть и дурной глаз. Не они ли причиной и его ранней усталости? Не потому ли он стал чаще задумываться в последнее время, искать уединения, подолгу молчать? В душе он даже радовался тому, что обрел покладистость и степенность, что глазами мысли стал воспринимать все хорошее и худое, все доброе и злое, все успехи и неудачи, которые случаются с человеком повседневно…
Ну, было немало сверстников, друзей и приятелей, окончивших в одно время разные столичные институты. Сплошь видные, пылкие джигиты, как на подбор. И цену себе знали, и на удачу уповали. Бывало, из разных учреждений друг другу позванивали, о житье-бытье расспрашивали, по праздникам с женами и детьми друг к другу в гости похаживали. Иные, глядя на них, и восхищались, и завидовали. А как же? Были молодые, щедры душой, жадны до новизны, чутки ко всем и ко всему. А теперь? Служба оказалась беспредельным морем. Кого-то прибило к далеким берегам, кого-то затянуло в пучину. Словом, поредели с годами ряды. Когда-то казалось: ничто не омрачит их дружбу, никто не осквернит уста недобрым словом. Однако проза жизни подточила мечту, переиначила многие наивные представления. Один из сокурсников, снедаемый завистью, начал распространять о нем разные слухи. Дескать, и с начальством ладит, и квартиру больно скоро получил, и жена попалась кроткая и покладистая. И еще на собраниях всегда выступает удачно. И на работе обо всем на свете забывает. Что поделаешь… чем-то не угодил приятелю по институту. Должно быть, тому было бы больше по душе, если бы он, Семетей, слонялся как неприкаянный по улицам и грохотал, как пустое ведро. С того времени он и замкнулся в себе, строже приглядывался к друзьям-приятелям. «Домосед, — говорили теперь о нем, — канцелярская душа». И если он не по годам сдержан и осторожен, если с некоторой опаской оглядывается вокруг и часто предается грустным размышлениям, то этим переменам в характере он обязан все тому же любезному другу…
Читать дальше