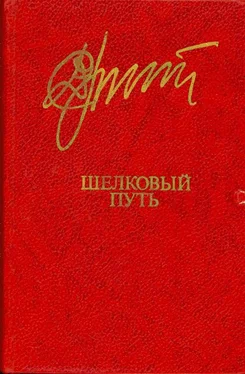— Извините, — буркнул. — Некогда было.
Хм-м… Оказывается, бедняга просверлил дырочку в наружной двери на уровне груди.
— Зачем это, дружище?
— Э-э-э… дорогой… хитрая это штуковина. Глазок называется. Еле разыскал в районе. Ну, скажем, кто-то стучит в дверь. А кто — шайтан знает? Тогда осмотришь его в глазок, а потом уж решаешь, открывать ему дверь или нет. Понятно?
Омирсерик замялся, сказал уклончиво:
— Вроде неприлично как-то…
— Зато надежно. Вот смотрите… — И сосед направил глазок прямо ему в грудь, будто из ружья прицелился. — Ну, как? Варит котелок у соседа, а?!
Омирсерик поморщился, вслух ничего не сказал, а сам подумал: «О, аллах… Дожили! Позор! Кругом тишь да благодать, а тут человека в глазок разглядывать…»
— Поймай мне скорее моего барашка. Я спешу… Хитрое выражение на лице соседа, смотрящего в глазок, еще долго преследовало его. «Не приведи аллах, чтобы я трясущимися руками запирал дверь на крючок, — думал Омирсерик, — да пусть все провалится… Я хочу по-человечески прожить свою жизнь, а не дувалы лепить, не заборы строить, не в глазок на божий свет глядеть…»
Омирсерик зарезал барана, разделал тушку, разложил мясо, посыпал солью и снова завернул в теплую шкуру, чтобы оно пропиталось соком. Было уже одиннадцать вечера. Только теперь притащился из райцентра сынишка. Глаза ввалились, ноги подкашиваются, рубаха вылезла из штанов, рожица бледная. Омирсеркк рассердился, начал кричать на него:
— Ты где это, сорванец, пропадаешь? Через два часа поезд прибудет. Мать твоя с утра покоя не знает. Слава богу, что семижильная. Еще держится. А я уж с ног валюсь…
Ветер, должно быть, опять усилился, сыпанул горстью песка в окно. Омирсерик вымыл руки, ни о чем не спрашивая сына, сел пить чай.
— Папа, — робко заговорил сын. — Олжеке сказал, что он сначала разыщет секретаря, уладит вопрос с этой, с кукурузой, и только потом, если освободится, постарается зайти к нам.
Омирсерик чуть не подавился хлебом:
— Он что, издевается?! Разыщет… уладит… Я ведь его как человека приглашаю!
Сын виновато поежился:
— Папа, он спал, когда я приходил. И я его прождал два часа. А он и разговаривать толком не стал…
Омирсерик в сердцах отодвинул от себя пиалу. Жена, укрывая полотенцем чашу с баурсаками, звучно цокнула языком:
— Не сокрушайся, дорогой. Ты думаешь, ему некогда? Или избегает разговора с твоим гостем? Он просто не желает приглашать потом гостя к себе.
Вот так да-а!.. Как это ему сразу в голову не пришло? С такой расчетливостью немудрено, ей-ей, и тысячу лет прожить. Ну и жук! Просто диву даешься, как он с таким умом по одной земле с тобой ходит, ту же пыль глотает, тот же вой ветра слушает. Да-а… Такие без выгоды и шагу не ступят. Помнится, когда он оставил учительскую работу и сел на маленькую зарплату райотдела культуры, загоревшись мечтой организовать краеведческий музей, Олжатай горячо отговаривал его, укорял, учил жизни: «Люди вперед стремятся, а ты назад пятишься… Разве мыслимо в наше время удовлетворяться такой зарплатой?..»
Что ж… Каждый смотрит на мир с высоты своей кочки. Лично он, Омирсерик, предпочитает жить открыто, довольствоваться тем, что есть, и оставить потомкам доброе дело и добрую память.
Между тем стрелка часов показывала уже почти полночь. Омирсерик начал собираться на станцию. Он был уверен, что жена, вымотавшись за день, уснула с детьми в гостевой комнате, но тут она, приодетая и принаряженная, вышла к нему. Глаза ее лучились.
— И я с тобой…
Что и говорить, такого человека, как историк Устабай, не грех встречать и с оркестром. Вероятно, не больно ему уютно будет, когда он глухой темной ночью, под вой и свист ураганного ветра, выйдет на пустой перрон и увидит одинокую сутулую фигурку приятеля в помятой кепчонке. А с женой как-никак и уверенней и солидней. Да и гостю приятно. Омирсерик почувствовал необычную нежность к своей жене.
Ночь выдалась хмурая. Лохматые, исхлестанные бурей тучи метались по небу. Ветер яростно набросился на путников, толкнул в грудь. Омирсерик поспешно подхватил оступившуюся жену под локоть. И вновь вдруг вспомнилось ему прошлое, далекое, почти забытое, окутанное дымкой времени, и, пожалуй, впервые подумал Омирсерик, что вся жизнь этой стройной, сухощавой, заметно поблекшей женщины, ставшей когда-то его женой, всецело принадлежит ему, и что живут они, в сущности, душа в душу, одним желанием; и будет она всегда рядом с ним, и разделит с ним все превратности судьбы. Пусть в повседневной жизни всякое случается и приходится иногда даже обижать друг друга и не всегда быть внимательным и чутким, а все же нет и не будет у него другого такого друга, такой опоры, такого преданного и верного товарища, как его жена. Омирсерик почувствовал, как защипало в глазах и к горлу подкатил комок. Ему было и грустно, и радостно, и светло, а в сердце вновь проснулась угасшая уже было любовь.
Читать дальше