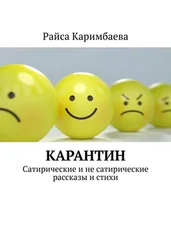Олив Синиор - Рассказы и стихи
Здесь есть возможность читать онлайн «Олив Синиор - Рассказы и стихи» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Рассказы и стихи
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Рассказы и стихи: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Рассказы и стихи»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Рассказы и стихи — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Рассказы и стихи», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Мистер Бартон тупо смотрел на Маркуса, словно никак не мог взять в толк его объяснения. На самом деле он ошалел, онемел от гнева. Эта баба ничуть не лучше прочих! Обыкновенная шлюха! Столько мужчин! И - Маркус! Где же они встречались? Он что, ходил к ней? Или она к нему? Сюда? Или Маркус бросал его по ночам, чтобы с нею встретиться? Двое детей! С такими идиотскими именами! Неслыханно! А он ничего не знал. Ничегошеньки. Как ужасно прожить с человеком столько лет и ничего о нем не знать!
Тем временем Маркус, невинно глядя на мистера Бартона, все рассказывал о женщине из родной деревни, об отцах ее ребятишек - вполне приличных людях. Все о детях заботятся, все, кроме оболтуса Джейка, но мамаша солдатика, мисс Айрис, внука не бросит. А как он сам-то спасал их во время ливня! Почитай, вся деревня пришла на подмогу! Ну и смеху было, когда кто-то выронил ночной горшок и он катился, катился, покуда не подпрыгнул и не наделся на голову плотника Паркинса, который как раз лез наверх. Повезло еще, что на нем была фетровая шляпа. А мистер Паркинс-то дьяконом в церкви служит, его на такое посмешище выставлять не пристало. Уж как он рассердился, как рассердился! Сперва-то он просто рассердился, потому что не знал, чем его по голове шарахнуло, а когда узнал - еще больше рассердился, потому что вся деревня смеялась, даже мисс Вай, даром что ее домик тогда почти уже смыло. Маркус рассказывал и сам чуть не помирал со смеху; в своем кругу он считался рассказчиком ничуть не худшим, чем мистер Бартон в своем. Ему казалось, что хозяин разделяет его радость: старик слушал с таким интересом, совсем как по воскресеньям, когда Маркус возвращался из деревни. Бедняга! Как ему, должно быть, скучно! Каких только историй не выдумывал Маркус на обратном пути, в автобусе, чтобы его развлечь. Кто еще с ним поговорит?.. Маркус рассказывал историю мисс Вай с таким воодушевлением, что даже не заметил, что в голове у мистера Бартона что-то словно взорвалось. Словно снова разразился неистовый ливень.
Несколько дней спустя домик опять возник на склоне. Только смотреть на него с террасы было некому.
И бросились врассыпную тики-тики
Как нас ни любили, нам все было мало.
Мюриэл Рьюкисер
Бесцельно бродила она по комнатам, где в темных углах таилась тишина.
Во дворе громко смеялись слуги и собаки остервенело лаяли на кошек.
Но это - во дворе. Снаружи.
Внутри же пелена, покрывавшая все с незапамятных времен, обнимала и ее, навеки заточив в королевстве, где не было ни любви, ни ненависти. Ничего тут на самом деле не было. Вечер отличался от дня тем, что зажигали лампы и читали молитвы на сон грядущий. Таков был вечерний ритуал. Тень от нависшего над бассейном хлебного дерева неистово плясала по огромной комнате, по стенам где голубым, где словно замшелым: это вылупилась из-под краски старая зеленоватая штукатурка. Потом бабушка укладывала ее на огромную кровать с четырьмя резными балясинами под тяжелое ворсистое одеяло и подтыкала его со всех сторон; а она, протянув руку, дотрагивалась до туалетного столика, до следа, который оставил когда-то на крышке ее черный карандаш; столик был полированный, светлый, цвета шампанского, и прохладно-уютный на ощупь.
Только кончится бал и забрезжит рассвет,
И поблекнет на небе звезда:
- запевала бабушка, и ее слабый голос подрагивал, точно перекрученная пружина патефона.
И танцоры уйдут - насовсем, навсегда,
Им уже не плясать никогда:
- подтягивала она бабушке. Они пели всего две песни, вернее, примерно полторы, потому что ни в той, ни в другой не знали всех слов до конца. Обе песни, как утверждала бабушка, остались с войны. С какой же войны? И неужели бабушка сражалась на этой войне? Наверно - да, оттого и голос у нее такой слабый, надтреснутый. Или бабушка говорила, что песни остались с предвоенной поры? Что-то все в голове перепуталось. Другая песня ей нравилась больше: первая была какая-то пресная, а во второй было больше драматизма.
Ты рАс-ска-жИ мо-Ей ма-мА-ше,
Скажи, что й-Я ей-Я люблЮ-Ю-Ю:
пела она страстно, вкладывая в песню всю душу, пела порою так громко, что объявшая дом пелена спадала и дедушка кричал из гостиной: <����Тише!>
Все вечера были одинаковы. Две песни с бабушкой, потом молитва - коленками на холодном полу, потом бабушка подтыкала одеяло, целовала ее и выходила. Иным был только воскресный вечер. Бабушка читала ей тогда из <����Воскресной книги живой поэзии>, где все стихи были про умерших или умирающих детей. <����Ах, мама, последний настал Новый год, что видеть мне суждено:> Эти строчки, самые любимые, звучали по воскресеньям напоследок, и она засыпала в слезах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Рассказы и стихи»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Рассказы и стихи» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Рассказы и стихи» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.