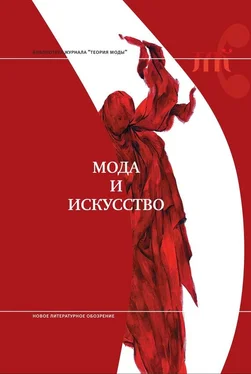В повседневной жизни человек одет почти всегда. Точнее, он почти постоянно (за исключением часов ночного сна) вовлечен в процесс переодевания и преображения тела. Поднявшись с постели утром, любой из нас первым делом что-нибудь на себя «накидывает». Затем мы направляемся в ванную комнату, чтобы привести в порядок кожу и волосы, после чего переодеваемся для повседневных дел. В течение дня мы что-то с себя снимаем, что-то надеваем, если нужно, меняем аксессуары. Так происходит процесс, в который вовлечены все; он подразумевает планирование, выбор и осуществление множества действий, в которых могут быть задействованы все пять органов чувств. Результатом этого процесса является одетое тело. И его можно рассматривать как одну из точек соприкосновения искусства и моды. Художники черпают идеи из повседневной жизни (даже если рождающиеся у них визуальные образы причудливы, а реальность на картинах предстает искаженной до неузнаваемости), а это значит, что мода и одетое тело, будучи неотъемлемой частью реальности, никак не могут ускользнуть от их внимательных глаз. В свою очередь, модельеры, которым раз в полгода необходимо поразить воображение публики чем-то новым, ищут вдохновения в произведениях искусства; они проявляют живой интерес ко всему, что уже создано, и ко всему, что происходит здесь и сейчас, изучая не только классические образчики изобразительного искусства, но также погружаясь в бескрайний мир современного перформативного искусства.
7 Красота: рисуя искусственное. Косметика и портретная живопись во Франции и Англии конца XVIII века
МОРАГ МАРТИН
В раннее Новое время туалетная комната дамы и мастерская художника часто были взаимозаменяемы: «краска превращается в румяна, румяна ведут себя как краска» [186]. Эта близость была наиболее очевидной в период европейского рококо, когда женщины обильно использовали косметику, часто состоявшую из тех же компонентов, что были в ходу у художников. Критики обвиняли искусство рококо в том, что оно женственно, чрезмерно накрашено и, таким образом, искажает высокие идеалы мужественной исторической живописи. С 1760-х годов художники-неоклассики избегали избыточной яркости и миловидности рококо, предпочитая более темные, строгие цвета и маскулинную тематику, дистанцируясь таким образом от обвинений в ненатуральности. В области портретной живописи, однако, художники не могли полностью игнорировать моду на макияж и соответствующую ему цветовую гамму. Они зависели от заказов, которые делали богатые клиенты, особенно после Французской революции, когда спрос на историческую живопись иссяк [187]. Художник, в каком бы жанре он ни работал, должен был запечатлеть лицо модели к ее – или его – удовольствию. Женщина, которая красилась, чтобы стать красивее, была схожа с художником, приукрашавшим свою модель, чтобы добиться одобрения и покровительства [188].
Мода на макияж, однако, менялась в течение XVIII века и во Франции, и в Англии: от броской, чрезмерной искусственности при дворе к более естественному, тонкому применению румян и пудры, практиковавшемуся в 1780-е и на протяжении всех революционных лет. Внутри этой изменчивости моды и представлений о красоте сосуществовали женщины, которые по разным причинам по-прежнему пользовались броскими румянами и пудрой, те, кто принимал новейшую моду или сочетал старый стиль с новым. В большинстве случаев у нас есть только один способ узнать их предпочтения – это портреты элиты. Изучать лица, пытаясь отыскать следы макияжа, – задача не из легких. Что художник хотел отразить в портрете – броские ли румяна или естественную красоту – приходится догадываться, оценивая веяния моды, личные предпочтения модели и личный взгляд художника на общепринятую красоту [189]. В конце концов, невзирая на постоянную критику в адрес художников и женщин, которые создавали искусственные маски при помощи красок или макияжа, отношения между художником, моделью и модой создавали структуру, в которой женская красота могла характеризоваться через палитру, все еще включавшую косметику, воспроизводившуюся на холстах вплоть до XIX века и далее.
В XVIII веке аристократки, особенно француженки, сильно злоупотребляли косметикой. На своем пике, в 1740–1750-е годы, придворная мода с ее нарумяненными щеками в огромных мушках, выбеленной кожей и напудренными париками была нарочито чрезмерной – это был дресс-код и способ идентификации, а не воспроизведение естественной красоты. Хотя самыми известными примерами этой моды являются портреты мадам де Помпадур, изображения менее известных дам отражают универсальность придворной моды для женщин, стремившихся к аристократическому положению во Франции. Отсюда этот стиль распространился по остальной Европе, сделавшись господствующим при дворах Британии и Германии.
Читать дальше