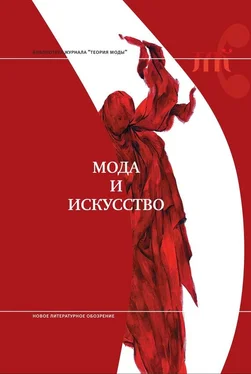Рабай Грэм, судя по всему, чувствовала себя вполне комфортно в мире визуальной культуры, где обычные границы – между живописью и модой, изящными искусствами и массовой культурой, высокими и низкими ценовыми категориями – были абсолютно проницаемы: «Мондрианы [sic] скоро будут висеть в тысячах и тысячах шкафов, став частью осеннего гардероба, точно так же как они висят на стенах, будучи частью коллекций современного искусства» [81]. Очевидно, ее воззрения простирались так далеко, что достигали некоего горизонта, где эти явления сливались в одну точку, становясь тождественными. Сен-Лоран заимствовал идею и образ своих знаменитых платьев у Мондриана, увидев его картины в книге, которую мать подарила ему на Рождество; точно так же производители недорогой одежды, увидев коллекцию Сен-Лорана, постарались как можно скорее поставить на поток копии этих платьев, сделав «образ в духе Мондриана» доступным для всех желающих. Точность этого предположения подтверждает статья, опубликованная в New York Herald Tribune. В качестве наглядного доказательства ее автор, Джейн Тамарин, приводит фото пяти платьев «Мондриан», выпущенных не домом моды Сен-Лорана, а другими производителями. Цены всех этих изделий умещаются в диапазон от 37 до 60 долларов, что составляет ничтожную часть от цены оригинальных платьев Сен-Лорана. «И если вам надоест их носить, – замечает Тамарин с оттенком ядовитой иронии, – вы в любой момент можете повесить их на стену» [82].
И все же проблему цены стоит обсудить подробнее. То, что некоторые модные обозреватели упоминают сумму, которая была заплачена 13 января 1965 года за картину Мондриана, созданную в 1921 году, наводит на мысль, что в их сознании высокие суммы, которые выручают классические полотна Мондриана, ассоциировались не только с высокими ценами на произведения Дома моды Сен-Лорана, но также с доходами от распространения копирующей их продукции массового производства. В своей колонке Бернадин Моррис писала о гонке, которую устроили производители одежды, состязаясь в том, кто быстрее «переведет Мондриана с холстов на платья»; где-то в середине этой заметки она заявляет: «Его работы положили конец прежним нападкам на моду, а также недовольству в связи с увеличением ценовой шкалы, по которой определяется стоимость произведений искусства. Одно из его полотен в этом году было продано за 42 000 долларов, а другие ощутимо дороже» [83]. Таким образом, мы не должны забывать о том, что одновременно с ростом популярности стиля «Мондриан» среди огромного числа среднестатистических потребителей картины этого художника превращались в объект вожделения богатых коллекционеров изобразительного искусства. Это поветрие не могло обойти стороной Сен-Лорана, который вместе со своим партнером Пьером Берже собрал невероятно ценную коллекцию, в которую в том числе вошли пять работ Мондриана.
Именно «образы в духе Мондриана» положили начало тому, что впоследствии стало обычной практикой для Ива Сен-Лорана: творить моду, полагаясь на искусство. Он коллекционировал картины Ван Гога, Матисса, Брака и Пикассо и мог создавать модели одежды, черпая идеи из их живописи. В 1988 году Сен-Лоран создал серию расшитых бисером жакетов, каждый из которых был выставлен на продажу за 85 000 долларов; образцами для вышивки стали «Подсолнухи» и «Ирисы» Ван Гога – на тот момент две самые дорогие в мире картины. Как писала Коллинз, «цены, установленные Сен-Лораном… на этот шикарный фейерверк в честь богатых и привилегированных, в действительности отражают рыночную стоимость картин, которые он копирует» [84]. Таким образом, взаимодействие между искусством и модой осуществляется одновременно на многих уровнях, что является непростым испытанием для нашей способности различать и разделять высокие и низкие струны, которые могут переплетаться самым причудливым и замысловатым образом (причем категории «высокое» и «низкое» применимы и к той сфере, где происходит оборот культурных ценностей, и к рынку потребительских товаров, признающему ценность чего бы то ни было лишь в том случае, если у нее есть денежное выражение).
К 1965 году неопластицизм Мондриана представлял собой пример классического модернизма, который когда-то считался авангардом, но со временем стал привычным и широко доступным, например в художественных альбомах, которые вдохновили с одной стороны Роя Лихтенштейна, а с другой – Ива Сен-Лорана. Соответственно, как указывает Лоранс Бенаим, для Сен-Лорана было характерно занимать промежуточную позицию между двумя полюсами мира моды – условностью от-кутюр и радикально новыми направлениями» [85]. Многие модели Сен-Лорана, даже созданные на этом раннем этапе его карьеры (он ушел из дома Dior и основал собственный дом моды в 1962 году, а в 1965-м ему еще не было тридцати лет), демонстрируют классическое сочетание юности и зрелости; учитывая это, радикально упрощенный силуэт действительно можно считать результатом «портновского подвига» (как некогда высказались Ричард Мартин и Гарольд Кода) [86]. Высочайшее мастерство, которое продемонстрировал Сен-Лоран, превратив картины Мондриана в платья от-кутюр, сравнимо с чрезвычайно аккуратной техникой самого художника: швы, соединяющие детали платьев Сен-Лорана, так же незаметны, как отдельные мазки на полотнах Мондриана – их невозможно увидеть, не изучив оригинальное произведение с близкого расстояния. Именно в силу того, что создавая свои платья, Сен-Лоран вдохновлялся репродукциями, которые не позволяли увидеть и прочувствовать фактуру положенного на полотно слоя краски, он, как и Лихтенштейн, увлекся графической простотой работ Мондриана, и в результате с 1965 года именно она считается главной характерной чертой неопластицизма, превратившегося в один из мгновенно узнаваемых стереотипов поп-культуры, в своего рода клише. Ирония заключается не столько в том, что у оригинальных платьев «Мондриан» чуть ли не в одночасье появились тысячи двойников, сколько в том, что после 1972 года, когда Сен-Лоран и Берже смогли приобрести первую подлинную картину Мондриана для своего собрания, на нее возложили почетную функцию свидетельствовать в пользу аутентичности дизайна оригинальных платьев «Мондриан», хотя с момента их презентации прошли годы. Поэтому написанная Мондрианом в 1922 году «Композиция с красным, желтым, синим и черным» фактически превратилась в иллюстрацию, которая кочевала из журнала в журнал в сопровождении верного спутника – сшитого в 1965 году платья «Номер 81». Известно как минимум три случая, когда ее репродукция была перевернута вверх ногами или, если хотите, поставлена с ног на голову; и это позволяет предположить, что правильная пространственная ориентация была не столь существенна по сравнению с основной ролью, которую должны были играть эти иллюстрации, указывая, что и это платье, и эта картина являются классическими образцами модернистского стиля [87]. Таким образом, можно утверждать, что у картин Мондриана появилась новая функция – быть символом собственного статуса в системе моды и символом стиля как такового.
Читать дальше