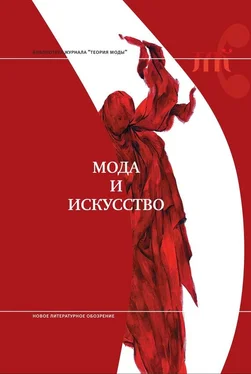Пожалуй, следует упомянуть несколько прецедентов использования образов «в духе Мондриана», включая помешательство на вещах в стиле оп-арт, охватившее мир моды всего несколькими месяцами ранее [75]. В 1964 году Андре Курреж продемонстрировал коллекцию футуристических ансамблей; предельно простые силуэты, синтетические материалы белого и серебристого цвета олицетворяли космическую эру, в то время как подолы обнажали колени девушек, и именно эта деталь оказалась востребованной, побудила к подражанию и, вероятно, предвосхитила скорое появление мини-юбки. Дизайн этой одежды был рассчитан на поколение беби-бума – молодых женщин с фигурой подростка, которые хотели вести активный образ жизни и одеваться соответствующим образом, женщин, готовых бросить вызов традиционным представлениям об идеальном женском облике и утонченных манерах, которые до сего времени ассоциировались с высокой модой.
В то же самое время, когда порожденные фантазией Куррежа образы космической эры стали главным хитом сезона, Сен-Лорану приходилось довольствоваться довольно унылыми отзывами о его коллекции весна – лето 1965, в которой преобладали относительно консервативные костюмы из твида и шелковые набивные ткани. В результате он был вынужден признать необходимость радикальных изменений, без которых его дом моды уже не мог отвечать требованиям стремительно меняющейся жизни. Вот что пишет Алекс Мэдсен: «Вдохновение, источником которого стал Мондриан, посетило его в последний момент. „В июле я почти закончил большую часть моей коллекции, – признался Ив в интервью журналу France Dimanche. – Ничего по-настоящему живого, ничего современного не приходило мне в голову, за исключением вечернего платья, которое я расшил пайетками на манер картины [Сержа] Полякова. Так было до тех пор, пока я не открыл альбом Мондриана, который матушка подарила мне на Рождество, и здесь я поймал свою ключевую идею”» [76].
«Я полностью изменил мою концепцию – все только новое – эта коллекция юная, юная, юная», – именно так цитируют слова, сказанные Сен-Лораном в день первого публичного показа моделей из коллекции осень – зима 1965 [77]. Модные обозреватели подхватили эту риторику и описывали вдохновленные Мондрианом творения Сен-Лорана так, что их заметки буквально источали аромат юности: «образ маленькой девочки», возникающий благодаря «ультрасовременным платьям с геометрическими узорами, сшитым из спортивного джерси», «у этой коллекции молодая и задорная душа» [78]. Читая такие отзывы, мы понимаем: даже несмотря на то что эти платья были обязаны своим появлением картинам, которые были созданы четырьмя десятилетиями ранее, в 1965 году «фирменный» стиль Мондриана ассоциировался с юношеским бесстрашием и был с легкостью воспринят людьми, выросшими в послевоенный период, когда положение женщины в обществе коренным образом изменилось. Но факт остается фактом: эти немыслимо дорогие произведения высокой моды появились благодаря вдохновению, подаренному модельеру художником, которого к тому времени уже более двадцати лет не было в живых. Если бы Мондриан прожил достаточно долго для того, чтобы увидеть платья Сен-Лорана, ему бы уже исполнилось 93 года. Так что на ум неизбежно приходит вопрос: почему столь успешной оказалась именно посмертная «карьера» Мондриана, а его работы в середине 1960-х годов вновь обрели актуальность? Почему стиль, которого он придерживался в живописи и от которого уже давно отказались другие художники, неожиданно стал казаться юным и задорным и стремительно вошел в моду?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам следует для начала вернуться в 1945 год, когда Стелла Брауни нашла источник вдохновения в тогда еще малоизвестных картинах, которые она увидела на мемориальной выставке в Музее современного искусства. В результате она создала несколько ансамблей, которые, во всяком случае сегодня, очень мало напоминают картины Мондриана. Созданные в 1965 году модели Сен-Лорана производят прямо противоположное впечатление: мы безошибочно узнаем в них формальные черты неопластицизма, художественного стиля, который был так широко распространен и стал настолько привычным для глаза, что его было просто невозможно не узнать. Сен-Лоран, как любой культурный человек его времени, должен был это знать; и он должен был осознавать это, когда решил заимствовать стиль Мондриана, который он воспроизвел с такой дотошной и очевидной точностью, что и зрители, так или иначе увидевшие его коллекцию, и его клиенты никак не могли не заметить прямой связи между образами Мондриана и «образом в духе Мондриана». Можно предположить, что Сен-Лоран надеялся добиться эффекта, при котором характерные для живописи Мондриана детали, превратившись в детали платья, заиграют новыми красками. В свое время Рабай Грэм в заметке для Philadelphia Inquirer сформулировала это следующим образом: «По-видимому, [Сен-Лоран] добился большей аутентичности Мондриана [sic], нежели кто бы то ни было другой». В его платьях из джерси «тщательно соблюдены именно те пропорции и сохранены именно те цвета, которые типичны для живописи Мондриана». Грэм зашла настолько далеко, что в какой-то момент стала говорить о платье так, словно это картина; она даже принялась сравнивать цены: «Сен-Лоран получил за это платье 1800 долларов, сравните это с 42 000 долларов, которые недавно были заплачены на одном из аукционов за картину Мондриана» [79]. Произведения Сен-Лорана стоили очень дорого, даже по меркам высокой моды; владельцы полотен Мондриана тем более могли гордиться, ведь его работы, попав в оборот американского рынка произведений искусства, оценивались беспрецедентно высоко. Перефразируя Эми Файн Коллинз, можно сказать, что Мондриан, как и Сен-Лоран, демонстрирует в своем творчестве «беспроигрышный, элегантный, первоклассный стиль» [80]. Действительно, постоянными клиентами кутюрье могли быть только люди, располагавшие достаточными средствами, чтобы позволить себе приобретать еще и картины Мондриана. Впрочем, и его полотна, и платья Сен-Лорана массово копировали, подделывали и тиражировали в виде репродукций или реплик; таким образом, на рынке образовалась особая ниша, которую целиком заняла продукция под маркой «Мондриан».
Читать дальше