В XIX в. возобладание натуралистического принципа, культ «родной» природы привели к рождению национальных парков-заповедников, резерватов природы [107]. Так природа получила свое охраняемое место. Наряду с этим развивалась противоположная тенденция – культура сама начала противостоять, хотя и безуспешно, безграничному разрастанию собственного пространства. Это осознается как необходимая предпосылка самосохранения человечества, что проявляется, в частности, в создании натуроподобных заселенных ландшафтов, городов-садов. В ХХ в. началась борьба за охрану воздушного пространства, речь идет не только об атмосфере, но и стратосфере, заполняемой плодами цивилизации и ее отбросами.
Культура не может обходиться без природы, которая предоставляет ей энергию и изначальный материал. Он беспределен, что делает беспредельным и возможности развития культуры. «Наше воображение, – писал еще Паскаль, – скорее утомится постигать, чем природа – доставлять ему материал… никакая идея не приближается к ней» [108]. Этот материал константен, ибо природа, по словам Б. Спинозы, «всегда и везде остается одной и той же» [109]– в этом ее отличие от исторически изменяющейся культуры.
Однако материал природы исчерпаем в своей вещественности, отсюда поиски всевозможных искусственных заменителей – ранее этому служили декоративные имитации, как искусственный мрамор, позднее – полимеры. Ими пользуются не только архитекторы, но и живописцы, связывающие с использованием искусственных красок возможность достижения особой экспрессии.
Культура заимствует у природы не только материал, но и принципы организации текстов, т. е. поэтику. Природа обладает ею в потенциальном виде, ибо «в ней есть язык» (Тютчев). Для Шеллинга вся природа есть «дремлющая интеллигенция», полностью пробуждающаяся в человеке, его духе, что происходит при посредстве культуры. Собственно «само понятие „Природа“ является плодом Культуры, отсоединения человечества на особую жизнь, путь и смысл – путь закона, дхармы [„порядка“, „установления“], ума, блага, любви, труда и т. д.», – писал Г.Д. Гачев [110]. Вместе с тем становится все очевиднее, что культура не свободна от деструктивного начала.
Попытки сближения
По мере развития натурфилософской мысли понятия натура и культура могли гармонизоваться, сочетаться антиномически и даже антагонистически – традиция, заложенная в Новое время и во многом обязанная Канту и Фихте, лишивших «природу всякого в себе сущего достоинства» [111]. В условиях, когда и биологические, и нравственные перспективы человечества оказались под сомнением, возникла тенденция преодолеть противостояние природы и культуры, что проявилось различно. С экспансией индустриализации развитие культуры начали представлять как саморазрастающуюся систему, уподобив ее развитию природы, в которой, в свою очередь, обнаружили механистическое начало. Г. Гельмгольц провозгласил, что «конечной целью естествознания является отыскание всех движений, лежащих в основе изменений и их двигателей, следовательно, сведение себя к механике» (1869). Поэты также оказались склонны к подобным представлениям. М. Метерлинк полагал, что цветы «исполнены гордого притязания захватить и покорить поверхность земного шара, умножая до бесконечности представляемую ими форму бытия… Поэтому большинство растений прибегает к хитростям, комбинациям, к устройству снарядов и силков, которые, в отношении механики, баллистики, воздухоплавания и наблюдений над насекомыми, часто превосходят изобретения и знания людей». Вместе с тем развитие индустрии он видел как воспроизведение эволюции растений («Разум цветов». 1907) [112].
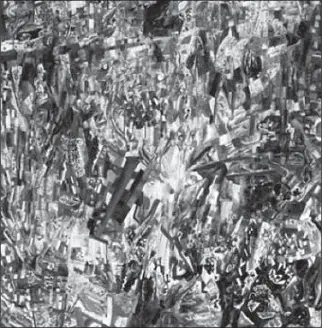
Павел Филонов. Формула весны. 1920
В 1910 г. C. Франк констатировал, что готовится «крупнейший переворот. Вся область органической и психической природы изъемлется из сферы механического мировоззрения». Он признавал, что в природе «имеют место живые, разумные, целеустремленные индивидуальные силы», и это делает «невозможным полагать между природой и культурой непроходимую пропасть», отрицать «соучастие обоих начал в каждой точке бытия» [113]. Подобные представления проецировались на художественное творчество. Архитекторы авангарда рассматривали архитектуру и урбанистику как «живую цепь организмов», социально функционирующие «органы» [ср. ренессансный подход (с. 135). Идея единства культуры и природы легла в основу русского космизма, проявившись особенно в теории ноосферы, согласно которой, человеческая мысль – это геологическая сила, сложившаяся «стихийно, как природное явление, в последние несколько десятков тысяч лет» [114]. Это прямо перекликается со словами Николая Кузанского, который рассматривал разум в качестве божественной космической силы: «Человеческий ум… участвует в плодородии творящей природы» [115].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

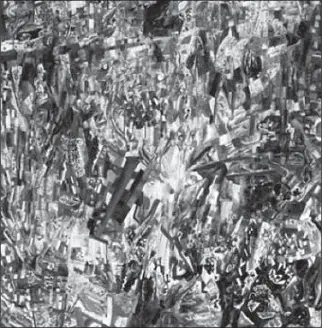




![Александр Марков - Постмодерн культуры и культура постмодерна [Лекции по теории культуры] [litres]](/books/407741/aleksandr-markov-postmodern-kultury-i-kultura-po-thumb.webp)






