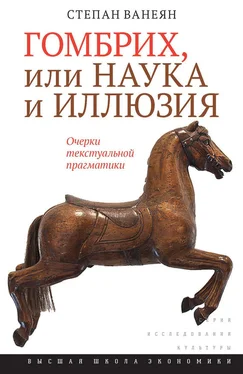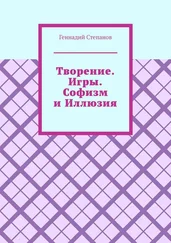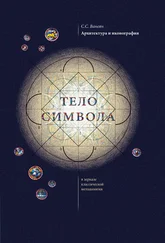Хотя мы тут же задаемся вопросом: а что до всего этого заслуженному деятелю мирового (всемирного) искусствознания и директору Института Варбурга и Курто? Можно ли этого солидного автора заподозрить в безоглядном пафосе и в экзистенциальной зависимости? Строго говоря, каковы могут быть степени и ресурсы вовлеченности и как они зависят от актуального состояния интерпретатора, его субъективного статуса, его социальной роли и научной ангажированности? Есть ли нечто такое, что делает или неуязвимым для подобного (и, стало быть, «объективным»), или нечувствительным (и, получается, «научным»)?
Вопрос может показаться некорректным уже по той причине, что мы разбираем текст, написанный в совсем иных обстоятельствах. Тогда, пусть и на излете войны, все еще стоял вопрос о границах и пределах европейской цивилизации и мысль, будто возможно новое поколение с помощью наглядно-гениальных образов привести к высшей, богоподобной и непорочной человечности, еще казалась не утопичной. Во все эти воистину последние, то есть последовавшие, наступившие, времена бесконечно существенна была та мысль, что можно и в откровенно и вызывающе секулярном мире уповать на силу наглядного убеждения и на благую привлекательность земных форм, если они служат человечности и миролюбию, а самого человека возвышают.
Вернее, обстоятельства подвергаются известной модификации, когда текст предлагается в новой редакции и когда он предваряется новым началом, именуемым, впрочем, по-честному «предисловием как послесловием». Эта явная рамочная метаконструкция – еще один повод заподозрить иконологическую методу в тотальной герменевтике (границы разножанровой текстуальности практически упразднены уже в тот момент, когда Гомбрих добавляет новые примечания к старому тексту), а все искусствознание – в единственно возможном и верифицированном способе существования лишь в качестве обрамляющей инстанции по краям искусства как такового. Еще раз, однако, заметим, что наши подозрения отчасти дезавуируются благодаря осознанному и выдержанному от текста к тексту стилю Гомбриха, где со вкусом демонстрируемая самоирония камуфлирует последовательно, хотя и ненавязчиво реализуемую психоаналитическую терапию. Читатель принимает сформулированные диагнозы и прописанные пилюли практически с радостью и благодарностью…
Обращает на себя внимание одно замечание Гомбриха: не только религиозное искусство, но и искусство секулярное имеет право воплощать и воспроизводить искренние и подлинные эмоции, причем последнее делает это отчасти более убедительно и более непосредственно (на изобразительном уровне), избегая конвенциональности и символизма. Мы можем добавить, что, так сказать, не санкционированное извне чувство выглядит более достоверным просто в силу своей непосредственности.
От демифологизации ренессансного символизма к деритуализации иконологического платонизма
Это и демонстрирует текст Гомбриха, хотя некоторым его критикам показалось, что этого недостаточно. Мы имеем в виду Винда [315], про которого в первую очередь можно сказать, что это неоплатоническая реакция на аристотелевскую и семиотическую фальсификацию ренессансного неоплатонизма, произведенную – совершенно сознательно – Гомбрихом.
Винд указывает на реальность и актуальность именно мистериальной составляющей не только ренессансного неоплатонизма, но и всей религиозной традиции, восходящей к поздней античности (по крайней мере). По мнению Винда, стоит с большей серьезностью относиться к этому моменту, учитывая не просто роль ритуальных структур, но их определяющие функции в построении смысла: это не просто способы придания специфической значимости тем или иным мифологическим, магическим, идеологическим и прочим коннотациям или установкам, это механизмы реализации решающей связи подчинения, ибо эти обрядовые практики – культы, выстроенные на симпатических связях, то есть покорности и зависимости.
Этот аспект нуминозного якобы упускает Гомбрих, предпочитая интерпретацию в терминах секулярного гуманизма и этического либерализма, хотя наша мысль состоит в том, что он сознательно переводит разговор в данные контексты. Он имеет в виду не просто демифологизацию очевидно мистифицированного материала ренессансной мысли, но именно деритуализацию практик интерпретации, обнаруживая в самом неоплатоническом дискурсе личностные аспекты, удерживающие свободу персональности как раз благодаря эстетической дистанцированности, способности к творческой игре, к произволу ассоциаций и подвижности эмоциональной сферы, избегающей аффективной связанности и фрустрационной регрессии (исток историзма как поиска утраченной идентичности в структурах нарратива).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу