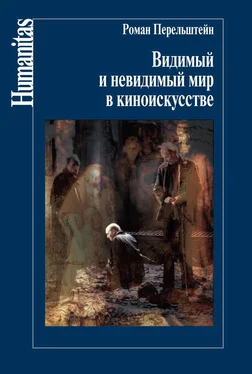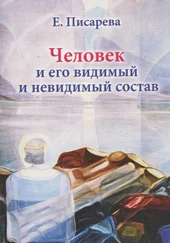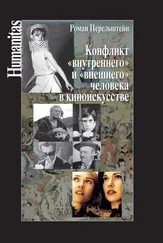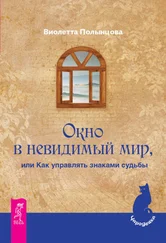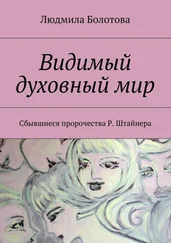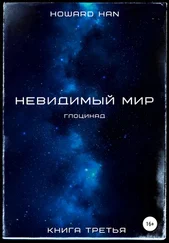Приведем еще одну цитату из Бахтина. «Индивидуальность дана здесь в стадии переплавки, как уже умирающая и еще не готовая; это тело стоит на пороге и могилы и колыбели вместе и одновременно, это уже не одно, но еще и не два тела; в нем всегда бьются два пульса: один из них материнский – замирающий» [174]. Дон Румата, вспоровший тело заклятого врага, освобождает его от всех внутренностей, за исключением сердца, которое еще продолжает слабо биться. Таков визуальный аналог замирающего материнского пульса. Румата цитирует местного поэта Гаука, кончившего жизнь на виселице. «Бессильный и неумелый, / Опустит слабые руки, / Не зная, где сердце спрута / И есть ли у спрута сердце…» И вот сердце обнаружено, спрут поражен.
Не будет преувеличением сказать, что Румата освобождает Ариму от себя – Руматы. Так новорожденный покидает материнскую утробу. Арима и Румата уже не одно тело, но еще не два. Тело, стоящее на пороге могилы, принадлежит Ариме, а тело, стоящее на пороге колыбели, принадлежит Румате. Однако никогда индивидуальности Руматы не вырваться из липкого плена Арканара, не собрать свою личность воедино, потому что в перевернутом мире сделать это невозможно. Победив спрута, Румата не вырывается из его щупальцев. Он сам становится спрутом.
Карнавал не позволит утвердиться в душе той «средневековой серьезности», которая не имеет ничего общего с официальной культурой церковного Средневековья. Последняя, безусловно, тоже серьезна, но совершенно на иной лад. Карнавальный смех является мощнейшим оружием против ограниченной напускной серьезности и одновременно надежным средством духовного самоубийства. Карнавал и само Средневековье выворачивает наизнанку, трактуя его как мракобесие и ассоциируя с охотой на ведьм, напоминающей политические процессы новейшей истории. Не потому ли Стругацкие погрузили вымышленную цивилизацию в сумерки Средневековья, которое представляло собою ад для инакомыслящих. Герман вторит Стругацким: «Сюжет фильма в том, что есть такое средневековое мерзкое государство, где убивают интеллигентов, книгочеев и умников, и наступает момент, когда главный герой сам превращается в зверя, в животное» [175]. Не потому ли это и происходит, что смешанность карнавального тела с животными, с вещами, с другими телами выдвигает на передний план стихии материально-телесного мира, и в человеке, в носителе смысла побеждает звериное, а не Божественное «я». Как говорит Румата в повести Стругацких: «Я же все-таки человек, и все животное мне не чуждо…». Сама карнавальная эстетика с ее «мощным движением вниз» делает предсказуемой духовное падение героя мифа, его закабаление миром Арканара. Ассоциировать карнавальные формы исключительно с областью свободы было бы поспешным.
С. Аверинцев высказал сомнение в том, что бахтинскую теорию смеха можно соединить с христианской культурой, хотя и отдавал должное первой в ее способности противостоять тоталитаризму. Однако вожди быстро прибирают к рукам «смеховую культуру» и делают ее эффективнейшим инструментом борьбы с инакомыслящими. «Иван Грозный был, как известно, образцом для Сталина; – пишет Аверинцев, – и сталинский режим просто не мог бы функционировать без своего “карнавала” – <���…> без гробианского задора прессы, без психологически точно рассчитанного эффекта нескончаемых и непредсказуемых поворотов колеса фортуны. Да и раньше, в 20-е годы, чем не карнавал – суд над Богом на комсомольских собраниях? Сколько было молодого, краснощекого, физкультурного смеха, пробовавшего крепкие зубы на ценностях “старого мира”»! [176]
Когда Герман показывает военный («Проверка на дорогах»), тыловой («Двадцать дней без войны») или советский быт («Мой друг Иван Лапшин»), он, как поэт камерного пространства, предельно точен. Но возможно ли, прибегая к той же поэтике, изваять вселенную, вместить «вселенское» в «родное»? Предпринята титаническая попытка, а вот успешна ли она? Не посягает ли вещный мир на тот объем, который, по негласной договоренности со зрителем, отведен под незримое?
Кадр Германа наводнен предметным миром еще и потому, что киноэкран, превратившийся в замочную скважину, наделяет даром видения только один глаз. Сужение поля зрения как территории опытного знания могло бы стать символом внутреннего видения, обращения взора в глубину сердца, но художник, развенчивающий человека, отказывается от визуализации высшего мира. Происходит подмена незримого мира ущербным зрением, символом которого становятся окривевшие типажи Босха; слепые на один, а то и на оба глаза обыватели. К ним пришел супергерой в виде дона Руматы как итог утопического будущего землян. А ведь это лишь уловка человеческой фантазии. К ним должен был бы прийти Сын Человеческий. «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ио. 1:11). Но такой задачи авторы повести и фильма перед собою не ставили. Они певцы идеалов нонконформизма, они исследуют опыт противостояния диктатуре большинства как господствующей доктрине при любой политической системе. В этом и сила, и слабость художественного высказывания Германа-старшего. В беседе с Петром Вайлем режиссер в запале признался: «Почти невозможное дело быть богом… И что ты с этим сделаешь? Все поворачивается поперек, кровью, какой-то глупостью. Ничего не остается, кроме как взять мечи и начать рубить головы» [177].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу