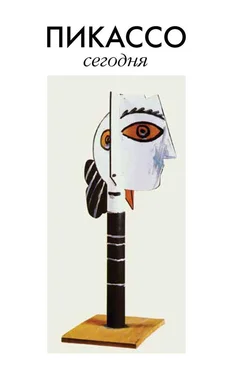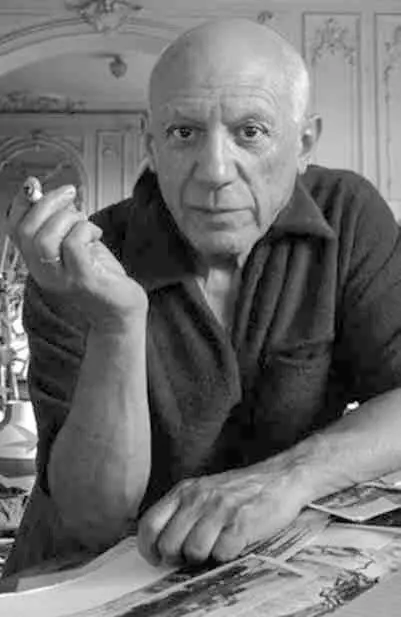Вот о чем, как я думаю, написана картина Веласкеса «Менины». Про то, что дочь короля и вся страна вместе с нею оказались в трудном положении. Не обязательно вспоминать о том, что нафантазировал изощренный Брайсон. Речь о том, какие вещи понимал глубокий мыслитель Веласкес.
До сих пор предмет мне кажется относительно ясным.
Далее начинаются сплошные недоумения. Неужели Пикассо, создатель «Герники» и других политических картин, угадал тот смысл картины «Менины», который до сих пор проходит мимо разумения ученых исследователей, которые изучают и Веласкеса, и Пикассо? Боюсь высказываться слишком определенно и однозначно, но не могу удержаться от догадок.
Пикассо превратил автопортрет Веласкеса, помещенный в «Менинах», в символический образ большого художника (в прямом смысле слова). Он вырос головою до верхнего края картины и обрел два лица, которые вглядываются друг в друга. Идет ли речь о самоанализе, о самопознании искусства, которое вглядывается в себя, поставив свой мольберт перед событиями реальной жизни?
Реальная жизнь окончательно превращается в карнавал. В исходной картине Веласкеса только назревал какой-то намек на грустный политический карнавал, на трагифарс загнивания империи, а именно в фигурах шута и пса. В барселонской вариации Пикассо геральдический пес-лев превратился в дурную шавку, которая зашустрила короткими лапами, пытаясь куда-то успеть. А визави художника, его собрат по дворцовой жизни и по духу, развлекатель публики, который своими кривляниями напоминал о судьбах страны, превратился в чучело с раздутой правой ногой. Малютка Принцесса в глубине смотрит на нас большими магическими глазами, находясь между гигантом-художником слева и невеселым политическим карнавалом справа.
Неужели Пикассо угадал скрытый смысл картины Веласкеса, до сих пор не угаданный искусствоведами и философами? Для меня это вопрос почти риторический. И все же приходится признавать, что тут мы имеем дело с загадкой, которая соблазняет на поиски смыслов, тогда как однозначных ответов не имеется.
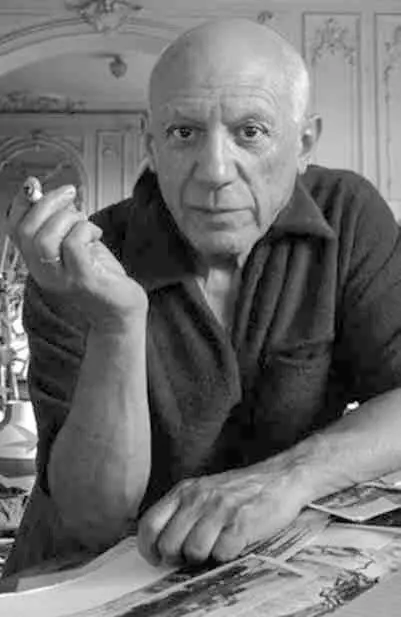
Т. В. Балашова
«Он всегда ощущал, где эта грань…»
Пабло Пикассо и живопись XX века в эстетической системе Андре Мальро
Андре Мальро – и в молодости, когда участвовал в сюрреалистических изданиях, и в зрелом возрасте, когда, создавая романы, одновременно обратился к искусствоведческим штудиям, оставив в наследство эпохальную панораму эволюции живописи и скульптуры от второго тысячелетия до нашей эры к финалу века двадцатого – никогда не дробил линию этой эволюции на противоречивые фрагменты. Подмечая какие-то характерные черты поэтики, он легко ставил рядом имена Корнеля и Эйзенштейна, Рабле и Чарли Чаплина, Льва Толстого и Дзиги Вертова, Анри Руссо и Веласкеса, Ренуара и Жоржа Руо, Микеланджело и Пикассо. А эксперименты своих современников рассматривал как естественное продолжение тех эстетических поисков, которые из века в век становились импульсом движения искусства.
Отношение Мальро с художниками его времени, роль, которую они сыграли в формировании его эстетической системы, еще ждет своего исследователя [608]. В границах темы данного коллективного труда решаюсь обобщить восприятие живописи Пикассо, отметив моменты, когда «общение» с творчеством Пикассо (и некоторых других современников) «отзывалось» в теоретических построениях Мальро-искусствоведа, определяя порой важные линии темы «традиция/современность». Какие бы общественные бури ни втягивали Мальро в свою воронку, он не терял контактов с теми художниками и писателями, к которым проникся доверием с молодости, – Пабло Пикассо и Марку Шагалу, Фернану Леже и Александру Алексееву, Блэзу Сандрару и Андре Жиду, Жоржу Руо и Андре Масону… И этот постоянный интерес к их творчеству образовывал ту ауру, в которой создавались историко-культурологические, искусствоведческие исследования Мальро.
Основной лексической единицей искусствоведческих книг Андре Мальро является слово «метаморфоза». Именно оно позволяет вычертить единую линию развития сквозь века: ретроспективный взгляд на историю культуры делает очевидным, что заметными, яркими предстают произведения, чем-то изменившие язык искусства. Хронологические пробелы между такими «новшествами» могут быть различны, как различна и реакция на них современников. Но это именно изменение, «сдвиг», феномен неожиданный, порождающий споры. Такова своеобразная гармония неизбежно возникающих изменений. И здесь осмысление пути, пройденного Пикассо, не только подтверждало тезис о целительной роли изменений; оно, бесспорно, давало дополнительные аргументы для осознания естественности «подключения» художественного сознания мастера к наиболее «энергоемким» (в его представлении) образцам искусства предшествующих веков. О себе Мальро говорил, что пишет вовсе не историю искусства, а скорее историю его бифуркаций, фиксируя моменты, когда от развилки берут начало разные пути.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу