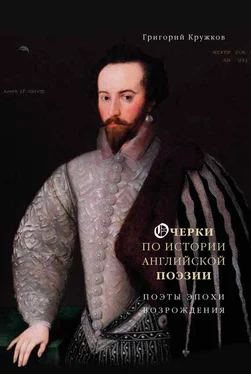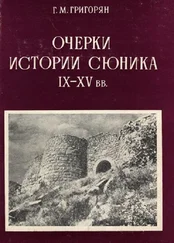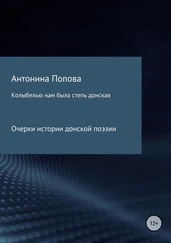А Шекспир – ничего. Тишина.
Такой характер говорит о боязни публичности, о целомудренной скрытности харак тера – может быть, застенчивости. Говорить напрямую устами своих персонажей – другое дело. Быть собою, одев чужую маску, – пожа луйста.
Никакое рассуждение о сонетах не может претендовать на статус окончательной истины. Всякое литературоведческое исследование – лишь попытка реконструкции, не более. От нее требуется только одно: быть качественней, чем ее конкуренты. Количественно эта качественность проявляется в том, что она дает ответы на большее число вопросов. Истолкований может быть сколько угодно, но это не значит, что все они равно ценны. Демократии здесь не место. Задача критика в том, чтобы выстроить теории в иерархическом порядке по степени их убедительности.
Не отрицая глубокой лиричности шекспировских сонетов (по крайней мере, многих из них), мы все же полагаем, что, взятые как целое, они – скорее результат обдуманного замысла, чем вольный поэтический дневник. Что не исключает, конечно, множества конкретных импульсов, из которых рождались те или другие сонеты.
Сравнение с «Повестью» Гаскойна дает нам некий фон и литературную перспективу. Исследователи не сомневаются, что толчком и материалом для гаскойновского сюжета мог послужить реальный опыт, но о прямой биографичности в данном случае речи нет. Безусловно, главную скрипку в «Повести» играет воображение, преобразовавшее личный опыт в факт литературы. Вполне вероятно, что Гаскойну случалось ухаживать за замужней женщиной и даже наставлять рога ее супругу. Так же несомненно, что Шекспиру доводилось (и не раз) искренне восхищаться красотой и блеском юного аристократа, образованного и просвещенного. Но больше этого о биографичности как «Повести» Гаскойна, так и шекспировских «Сонетов» мы ничего не знаем и знать не можем.
Современная критика, пишет Элен Вендлер, слишком часто подходит к «Сонетам» с точки зрения социологии, психоанализа и так далее. «Она склонна прочитывать их как некие биографические признания, психологический роман или драму, упуская из виду, что стихи – это прежде всего слова и что в лирической поэзии именно слова – главные актеры и действующие лица» [84]. Вполне соглашаясь с мнением авторитетного критика, мы только хотим добавить, что книга сонетов – нечто большее, чем отдельный сонет, и у великого поэта она не может быть случайной суммой лирических импульсов.
И в «Повести» Гаскойна, и в «Сонетах» Шекспира есть важный аллегорический и символический аспект. Аллегоричность – это та именно черта культуры Возрождения, которая унаследована ею от средневековой эпохи, и зачастую новые, гуманистические идеи облекаются в эти привычные формы. Что же касается психологических аспектов, то мы нередко забываем, что психологизм – порождение XIX века, чуждое ренессансной культуре.
Автор в присутствии Любви небесной и Любви земной – вот, на наш взгляд, общий замысел и содержание «Сонетов» Шекспира. Такой взгляд несколько удаляет их от сегодняшнего читателя, зато приближает к его современникам, например к Джону Донну, автору «Песен и сонетов». Не только читателей, но и литературоведов удивляла странная чересполосица стихотворений Донна: высокие платонические гимны любви перемежаются у него с грубыми и даже издевательскими стихами. Английский литературовед Элен Гарднер в свое время выдвинула гипотезу, что эти грубые и пародийные стихи Донн писал в молодости, а как женился и остепенился, стал писать стихи высокоморальные, без насмешек и скабрезностей. Так она выстроила знаменитое оксфордское издание песен и сонетов, разделив их, по своему разумению, на два раздела [85]. Подобный взгляд логичен, но не учитывает существенной амбивалентности сознания автора елизаветинской эпохи. В том-то и дело, что стихи pro и contra могли писаться Донном практически одновременно, «прение» Венеры небесной и Венеры земной происходило в сознании поэта непрерывно, оно-то и придавало особую метафизическую остроту хвалам и хулам поэта.
Такое же «приятное разнообразие» или «пестрота» (poikilia) обнаруживается и в «маленькой книжечке» Катулла, – что, как указывает М. Л. Гаспаров [86], в те времена было обычной литературной модой. Эта «пестрота», безусловно, соответствует внутренней драматичности, амбивалентности поэзии Катулла. То же самое можно сказать и о Джоне Донне. В сонетах Шекспира мы прикасаемся к самому нерву той сложной, противоречивой эпохи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу