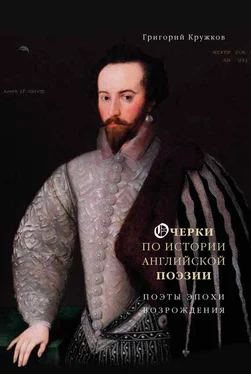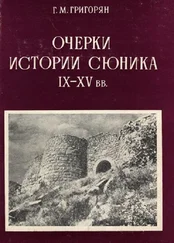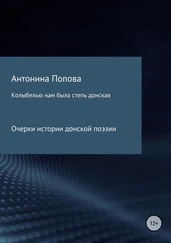Он полон снисхождения и благоволения к своим героям (Автор – тоже один из них). Он вновь и вновь клеймит ложь и обман, но тут же готов признать, что «перед лаской искушенных жен / Сын женщины едва ли устоит» (41). Он «подозревает» своего Друга не в эгоизме, а в чрезмерном великодушии («А он из бесконечной доброты / Готов остаться у тебя в закладе», 134). Он готов допустить, что его коварная Леди больше уже не смотрит на него лишь из милосердия, зная разящую силу своих взглядов (139). Он готов терпеть ее жестокое ярмо как справедливое наказанья за свои грехи (141, 142). Он рад этому наказанию («В своем несчастье одному я рад, Что ты мой грех и ты – мой вечный ад»). Он просит у нее жалости – зная, что не допросится.
И вдруг, в самом драматическом месте, после многих горьких слов и признаний – он вдруг смешит нас, рисуя сценку, где и он сам, и его любимая предстают в комическом, пародийном виде. Она – в виде хозяйки, погнавшейся за курицей, он – в виде зареванного малыша, оставшегося у крыльца. И развеселив читателя появлением этой суетливой хозяйки и ее пернатой любимицы ( her feather’d creature ), заканчивает неожиданной и трогательной просьбой: «Когда поймаешь, кого тебе нужно, вернись ко мне, утешь меня как мать, поцелуй…»
But if thou catch thy hope, turn back to me,
And play the mother’s part, kiss me, be kind . (143, 11–12)
«Нередко для того, чтобы поймать…»
Нередко для того, чтобы поймать
Шальную курицу иль петуха,
Ребенка наземь опускает мать,
К его мольбам и жалобам глуха,
И тщетно гонится за беглецом,
Который, шею вытянув вперед
И трепеща перед ее лицом,
Передохнуть хозяйке не дает.
Так ты меня оставила, мой друг,
Гонясь за тем, что убегает прочь.
Я, как дитя, ищу тебя вокруг,
Зову тебя, терзаясь день и ночь.
Скорей мечту крылатую лови
И возвратись к покинутой любви.
Талант драматурга не дремлет, он знает, как юмор может подчеркнуть патетику и трагедию. Его художественный инстинкт подсказывает, что наличие в картине простодушной твари Божьей – собаки, кошки, лошади – может заземлить патетику – и одновременно придать ей еще один выспренний импульс. Коротко говоря, он в совершенстве владеет искусством контраста. Кто бы сомневался!
И здесь еще раз хочется задать вопрос, насколько автобиографичны «Сонеты». Привязать их крепко-накрепко к жизни Шекспира, найти прототипов его героев – вокруг этого хлопотали целые сонмы угадчиков и фантазеров. На роль Смуглой леди предлагались, например, Мэри Фиттон и Эмилия Ланьер. По какой причине? Главным образом по той, что о них мы кое-что знаем. Не об их знакомстве с Шекспиром, а вообще. Это очень напоминает логику полицейского, который, расследуя квартирную кражу, арестовывает двух первых попавшихся женщин. Проверяет их документы и говорит:
– Вот видите, они живут в этом районе. Это подозрительно.
– А какие улики? Почему не кто-либо другой?
– Да ведь других у нас нет. А эти вот попались, голубушки!
Разумеется, в сонетах Шекспира много личного чувства, глубоко пережитого опыта. Но как этот опыт претворяется в художественных произведениях, вопрос другой. Разве нет глубоко личного, искреннего чувства в монологах Гамлета? Или Отелло? Или Лира? Да кого угодно из его персонажей, не исключая женщин. Помните, что отвечал Флобер на вопрос о прототипе мадам Бовари: «Мадам Бовари – это я». Так и Шекспир живет – сам! – в Катарине, в Корделии, в Клеопатре, в Джульетте. Да что там – даже в Кормилице Джульетты.
Так что же – Шекспир все придумал? Ну, вот опять Вы, читатель, бросаетесь в другую крайность. Истина, по-видимому, лежит посередине.
«Сонеты Шекспира, – писал А. А. Аникст, – следует рассматривать, прежде всего, как произведения поэзии. В какой мере в них отразились личные переживания Шекспира, судить трудно. Есть сонеты, в которых ощущаются непосредственные чувства автора. Но Шекспир – гениальный поэт, и мы можем обмануться, считая, что он исповедуется перед нами, когда на самом деле он выражает не столько свои, сколько общечеловеческие чувства» [83].
Была ли у Шекспира «история с треугольником» такого накала, какой запечатлен в его сонетах, мы не знаем. Но известно, что в 1596 году он потерял своего единственного сына – одиннадцатилетнего Гамнета, на которого он возлагал большие надежды. И ни одного слова в стихах – ни сонета, ни элегии.
Бен Джон в аналогичном горе написал известные стихи: «Прощай, сынок! Немилосердный рок / Мне словно руку правую отсек…».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу