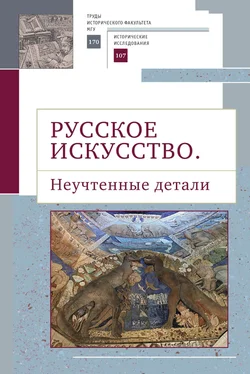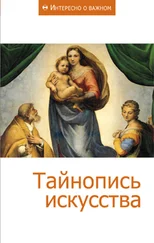Кодикологическая структура рукотворных «инкрустаций» в старопечатную книгу довольно разнообразна, но может быть сведена к нескольким базовым вариантам, которые нередко сочетаются друг с другом в одном и том же экземпляре. Первый из них предполагает включение в готовый печатный кодекс отсутствовавших в нем листов – это могут быть современные, более ранние или несколько более поздние миниатюры; с миниатюры, заменяющие оригинальные гравюры, которые не понравились владельцу или были использованы для других целей 61 61 Такие метаморфозы произошли с двумя экземплярами виленского Евангелия 1575 г. – из Пафнутьева Боровского монастыря, с миниатюрами 1600 г. (Государственный Исторический музей), и из Музеев Московского Кремля, с миниатюрами и декором начала XVII в. ( Сидоров А. А. Древнерусская книжная гравюра… С. 21, 117, 307–308; Борисова Т. С. Миниатюры и орнаментальные украшения начала XVII века в Евангелии 1575 года…). Возможно, первоначальные гравюры показались инициаторам переделок слишком «латинскими» по иконографии и стилю или недостаточно выразительными.
, а также защитные листы с «завесами» из ткани и орнаментальными рамками. Еще один сценарий из того же ряда – украшение книги гравюрами из другого издания (или, по крайней мере, гравюрами, напечатанными с досок, предназначенных для другого издания), которые к тому же могут быть раскрашены 62 62 Не исключено, что в исходное издание вместо изъятых гравюр порой вставлялись листы с миниатюрами.
. Такие гравюры (в том числе раскрашенные) встречаются и в рукописях, не имевших миниатюр или утративших листы с живописными композициями; подобные прецеденты родственны практике украшения рукописей гравированными заставками или рамками, восходящей еще к первой половине XVI в. 63 63 Немировский Е. Л. Гравюра на меди в русской рукописной книге…
Второй вариант – это золочение, подцветка или раскраска лицевых гравюр, заставок, инициалов и маргинальных украшений, а также фрагментов текста (как правило, напечатанных киноварью). Им может сопутствовать появление деталей или орнаментальных мотивов, отсутствующих в оригинальном печатном издании и потому довольно существенно меняющих композицию гравюры или структуру книжного листа. Сравнительно редким подвидом этого варианта является иллюминация от руки, предусмотренная при изготовлении части тиража, сознательно лишенной определенных элементов гравированного декора. Наконец, третий из основных вариантов вмешательства заключается в исполнении полноцветных или монохромных миниатюр, а также орнаментальных композиций, на пустых листах или полях текстовых полос, а иногда – поверх гравированных заставок (во всех таких случаях речь идет о фигуративных или орнаментальных композициях, которые не используют гравюру в качестве подготовительного рисунка, хотя и могут отталкиваться от элементов печатного декора той же книги).
Как видно, перечисленные действия, особенно произведенные не поодиночке, а в комплексе, способны радикально изменить облик печатного кодекса, выделив его не только относительно нетронутых экземпляров того же тиража, но и в сравнении с теми экземплярами, которые, пройдя в целом похожий художественный «тюнинг», претерпели минимум возможных операций. Однако разница между всеми разновидностями экземпляров зависит и от степени смелости исполнителей дополнительного декора, вдохновляемых своей фантазией и идеями заказчика, или, иными словами, от пропорционального соотношения красочного слоя с гравюрой. Даже если в печатную книгу не вставлены лишние листы и в ней нет добавленных миниатюр, сам гравированный декор может быть переосмыслен очень серьезно, до такой степени, что кодекс или какой-то его элемент кажется полностью рукотворным. Но возможен и прямо противоположный подход – деликатная индивидуализация образа печатной книги. Речь идет о мягкой, неяркой подцветке иллюстраций и других (иногда немногих, порой случайно выбранных) элементов декора, исполненной несколькими прозрачными тонами (обычно в таких случаях говорят об акварели). Поскольку это именно подцветка, не обладающая собственными стилистическими качествами, ее сложно датировать визуально; она может быть и современной изданию, и несколько более поздней, и даже поновительской, появившейся при реставрации книги в старообрядческой среде. Сходным образом обстоит дело и со следующей ступенью, выделяемой отнюдь не хронологически, но по качественным признакам, – более активной и разнообразной подцветкой, которую уже можно назвать раскраской с элементами моделировки. Этот вариант напоминает раскрашенные гравюры ранних западных изданий и в то же время близок раскрашенным очерковым миниатюрам русских рукописей XV–XVI вв. По-видимому, оба этих варианта могли сочетаться с частичной пропиской книжного декора золотом, хотя последний способ украшения книги использовался и самостоятельно. Далее следует раскраска гравюр, акварельная или темперная, близкая к живописи, но несколько упрощенная по сравнению с ее приемами. Самый сложный способ художественной интерпретации гравированной основы представляет собой ее полноценную темперную роспись красками и золотом, с результатом, ничем не отличающимся от живописи миниатюр или икон. Близость таких композиций к миниатюрам выражается и в том, что их нередко сопровождают вставные листы с шелковыми завесами, имеющими орнаментальные рамки. Правда, и в подобных, наиболее роскошных экземплярах, живопись по-разному соотносится с гравированным декором. Она покрывает композиции то сплошь, то частично, оставляя свободными некоторые участки или украшая их легкой подцветкой. И в том, и в другом случае живопись может развивать и дополнять изначальный рисунок, особенно рисунок узора, захватывая дополнительную площадь книжного листа и меняя характер отдельных элементов фигуративных и орнаментальных гравюр. Однако она может и подчиняться графическому рисунку. Последний принцип более характерен для экземпляров с подцветкой и упрощенной раскраской, но среди них тоже есть книги с добавленными орнаментальными мотивами. Впрочем, и в числе роскошных экземпляров встречаются кодексы, в которых без существенных изменений остались если не гравюры, то раскрашенный орнамент.
Читать дальше