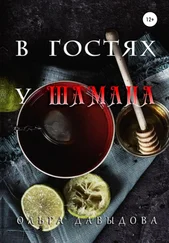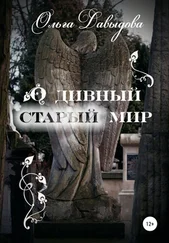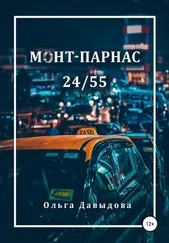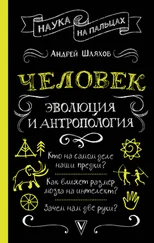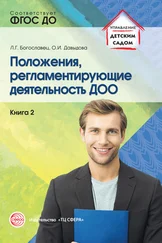Неслучайно разговор об искусствоведческих аспектах постижения антропологической проблематики мы начали с композиций, уже на иконографическом уровне концентрирующих все силы самоощущения на пробудившемся переживании незримой внутренней реальности, с болью заговорившей о своих правах на человека. Тишина сквера, окружающего капеллу дельи Скровеньи в Падуе, словно живой виток во времени, естественно отстраняет современность не только на расстояние удаленности железнодорожных путей, но и, по меньшей мере, на расстояние тех столетий, дистанция которых определяет уровень жизни души внутри нашей активно действующей внешней личности.
Привыкнув воспринимать время как движение (весь XX век прошел под скоростную увертюру в духе «perpetuum mobile» Мориса Равеля, Белы Бартока или Сергея Прокофьева), сегодня часто пренебрегают тем, что время – это еще и состояние, облик которого хранят формы искусства, говоря о сущностной ценности пауз. Конечно, «программное» переключение темпоритма уже на этапах подступа к произведению – исходящая извне помощь, смягчающая шок эмоционального прозрения, всегда переживаемого от соприкосновения с инобытием подлинного художественного мира. Одилон Редон метафорически заметил, что ухо – это орган, который принимает форму интеллекта 4. В искусстве больших внутренних масштабов «ухо» – почти всегда душа, однако в эстетических и кураторских проектах начала 2000-х она зачатую кажется историческим атавизмом (один полюс) или модной мнимотехникой (другой полюс). Сразу подчеркну, что речь идет не о полной утрате душевной интуиции в постижении сложной структуры человеческой личности, но о доминирующих акцентах, под которые подпадает не только зрительское сознание, но и самоощущение самих художников. В 1915 году Сергеем Дурылиным совместно еще с шестью авторами был написал гротесково-карикатурный, но при этом «фаустовский» роман «Соколий пуп», в котором парадоксальным образом (правда с другими интеллектуальными акцентами) можно усмотреть не только черты начала XX века, но и близкие нашей эпохе гримасы скоростей, «рекордящих» пейзаж и «марафонящих» историю искусств. Именно пробег, как лейтмотив времени, во многом привел к процессу, нарастание которого с большой горечью можно отметить, начиная с конца 1990-х годов, – кажущейся дезактуализации истории искусств. Потеря деталей, обилие обратных метаморфоз, – от человека к животному, – нарастание пустой «телесности» на уровне модных приемов бесконечных обобщений форм, распространившиеся на концептуальном уровне в приемах художественного языка, изменяют и акценты зрительской практики, при которой выставки обозревают, а не рассматривают. Однако постижение поэтики художественного образа требует иного скоростного режима. В этом плане нельзя не отметить тех новых тенденций в попытке погрузить язык образов в пространство особой душевно субстанциональной реальности истории искусства, которые предпринимаются в последнее время Московским музеем современного искусства (например, выставки «Сны для тех, кто бодрствует», 1 марта – 4 ноября 2013; «Игра в цирк. Образ цирка в русском искусстве XX–XXI веков», 21 февраля – 6 апреля 2014) или проявились в программе 55-й Венецианской биеннале (1 июня -24 ноября 2013) «Энциклопедический дворец», разработанной Массимилиано Джони. Внутреннее сближение с символистским мировоззрением, очевидно наблюдавшееся в подборе произведений, всем своим романтико-метафизическим контекстом было ориентировано на пробуждение внутренней веры в непрерывность взаимодействий разноэпохальных художественных голосов.
Начав разговор с художественного образа «оплакивания», я вовсе не настаиваю на силе исключительно трагического опыта в постижении человеком своего духовного начала. Нет, искусство, конечно, живет и многомерной красочностью импровизационной радости игры, во внутренней атмосфере конфликтной современности, к сожалению, все чаще возбуждающей вопрос: «Куда исчезла пульчинелла?». Просто чувство утраты, в отличие от многих других переживаний, сублимировать невозможно. Одной из самых сильно действующих и неотстранимых форм сближения «человека физического» с платонической реальностью души и является «оплакивание» – человекосодержательная пауза, вспышка света самосознания, контрапункт, в размышлениях человека о своем образе и подобии, такой же насыщенный и кардинальный, каким является «человек» в контексте смыслообразования и развития искусства. Смерть дает жизни «странное озарение», сосредотачивая и сердце, и ум на мысли о сущностных основах человека. Выдающиеся образы искусства, длительнее всего помнящиеся, ранящие своим потенциальным намеком на что-то в этой реальности недопонятое, всегда рождаются «из кульминации» чувства. По крайней мере, это присуще образам индивидуальным, творчески неповторимым, преломляющим видимый природный мир через субстанцию собственной художественной жизни. Проступающий в искусстве характер переживания мысли о «теле смерти» (Ап. Павел. Римл. 7: 24) обусловливается отношением человека к космогоническому устройству вселенной, его тяготением к тому или иному образному началу: «Человек не может оставаться только человеком: он должен или подняться над собой, или упасть в бездну, вырасти в бога, или в зверя» 5. Если проанализировать искусство в пределах последних двух столетий (начиная романтизмом и кончая нашими днями), то можно увидеть, как настойчиво и жестоко развивалась борьба художественного мировоззрения личности с эмбриональным самоощущением организма за «человека душевного».
Читать дальше
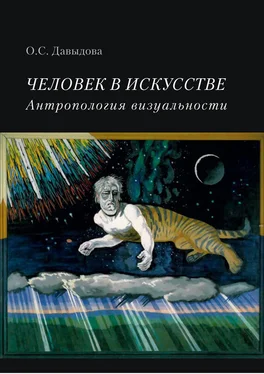
![Ольга Готина - Человек «удача»! [СИ]](/books/44432/olga-gotina-chelovek-udacha-si-thumb.webp)