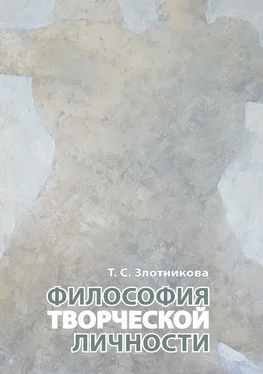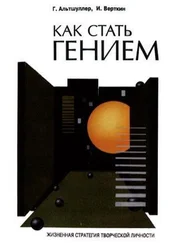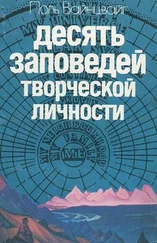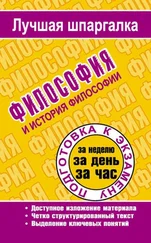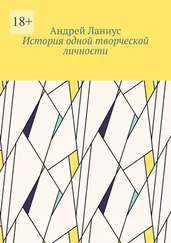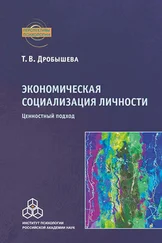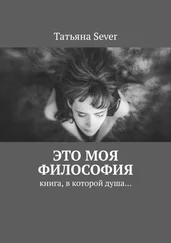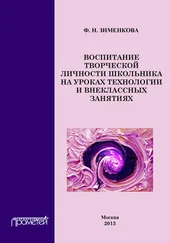С. Лукьяненко , растиражированный и разрекламированный в связи с появлением фильма («первого российского блокбастера», «нашего ответа Голливуду») – «Ночного дозора», вынес на рынок романтический образец персонажей и обстоятельств. В своих текстах – а мы принципиально опираемся именно на литературный текст, хотя и учитываем его возможную новую жизнь в кинематографе – Лукьяненко логично и успешно актуализировал мотив «предельности», «катастрофизма», замешанный на фольклорной экзотике, на раскольниковской идее «проверки» себя и мира жестокостью и вседозволенностью. По сути дела, попытался в классической традиции написать роман испытания.
На обложке третьего романа под названием «Сумеречный дозор» (твердой, глянцевой, с тиражом в 20 000 тысяч экземпляров) – узнаваемые лица актеров из кинофильма по роману первому («Ночной дозор»): К. Хабенский (протагонист), В. Меньшов, В. Вержбицкий (антагонисты-маги). Любопытен момент обратного отсчета, когда книга, ее популярность и сам факт издания становятся «продуктом» другого, важнейшего из всех искусства (но это, по версии В. Ленина, применительно к первой четверти ХХ века) – кинематографа.
Здесь же, на обложке – два красных слова: «новый супербестселлер». Не разделяя ажиотажа депутатов российской Госдумы, борющихся за очищение русского языка от иностранных слов – ибо в научной речи уже никак без них не обойтись – о бнаруживаем: российские издатели, еще не начав продавать (английское «to sell»), уже объявляют свой товар «ходовым» и кодируют сознание читателей на погоню за своей продукцией. Они не останавливаются на устоявшейся формуле, говорящей о наилучшей продаваемости/покупаемости (английское «best»), и еще на ранг повышают эмоциональный тонус восприятия товара (английское «super»).
Впрочем, если прокат северо- и южноамериканских телесериалов рождает издательский и покупательский бум; если исторические «сериалы» Э. Радзинского, рассказанные им по телевидению, раскупаются в бумажной версии вслед за демонстрацией на ТВ, как и роман В. Аксенова «Московская сага», скромно прошедший несколько лет назад журнальной публикацией, как «Дети Арбата» А. Рыбакова, впервые читанные в год, когда нынешние зрители популярного телепроекта «Дом-2» ходили в детский сад или вовсе не родились… Если все это так, то «super» и «best» можно отнести и к впервые публикуемому тексту лишь на основании массового внимания к кинофильму, сделанному на материале предшествующего романа этого автора.
Мотивы, коды, мифологемы, пришедшие из русской классики, в масскультовском тексте Лукьяненко учитывают опыт и неопытность читателей, части которых автор словно подмигивает: «вот мы какие с вами элитарные», думаем и шутим, печалимся и восхищаемся по одним и тем же поводам. Отсюда – практически полный «джентльменский набор» ракурсов, семиотически узнаваемых и органично подновляемых в силу изменений лексики и обыденных реалий.
Автор превращает в нарезку русскую и слегка к ней присоединенную зарубежную классику (жилой комплекс, где происходят события мистического порядка, называется «Ассоль»; в речи персонажей возникают прямые отсылки к классике, сам же автор подталкивает к ассоциациям с классикой как контекстом существования персонажей и читателей). Первая фраза наделена именно такими ностальгическими коннотациями, которые вводят автора в круг избранных (им? книгопродавцами?) читателей: «Настоящие дворы исчезли в Москве где-то между Высоцким и Окуджавой».
Не москвич по рождению, Лукьяненко считает, что большие зеленые дворы со столиками и скамейками были в относительно недавней Москве; он просто не знает, что весь «сталинский» и «послесталинский» центр города был таких дворов лишен, ибо его новые обитатели уже с 50-х годов выбирались на дачи и не нуждались в городском внеквартирном комфорте. Но – носитель массового сознания – автор современного текста полагает, что в той Москве, где он не жил, было так же замечательно, как в сказке о потерянном времени. Налицо – аберрация, подмена реалий фантомами (для чего и вводится мотив «московского дворика»), что характерно для массовой культуры.
Автор «Дозоров», естественно, начитался русских классиков, которых, на радость любящим ребусы и шарады читателям, цитирует прямо или косвенно. Начитался, прежде всего, Булгакова, от которого возникают и «совсем человеческие нотки» в голосе шефа-мага, сообщество высших магов называется простенько «нашей компанией», и образ странного пространства избушки (чем не «нехорошая квартира», раздвинутая с помощью особого измерения), и постоянно трансформирующаяся из иссохшей старухи в полнокровную красотку ведьма Арина, в духе то ли Геллы, то ли Маргариты, поворачивается к современным людям «грациозно покачивая бедрами и ничуть не стесняясь наготы». Начитался Гоголя с его дьявольщиной опошления и упрощения, с его забавными поддавками дружеских сладких мечтаний в виде диалога двух елейно-преданных Светлых Магов, клянущихся во взаимной правдивости. Начитался Тургенева и его критиков (оттого и упоминает даже не Базарова, а «базаровщину», на всякий случай все же ставя рядом и «нигилистический взгляд»). Начитался Достоевского, наделив московского мальчика из тесной квартирки не просто вампирским даром, но раскольниковской несмиряемой жаждой самоутверждения (заодно предлагая ницшеанский дайджест: «почему требуется стать самым сильным, чтобы позволить себе слабость?»). Начитался Чехова (или просто усвоил одну-единственную ироническую цитату – правда, о «глубокоуважаемом», в отличие от чеховской версии «многоуважаемого», шкафе). Начитался Пришвина и Паустовского, отчего попавший в лес городской житель трогательно обирает с кустов подсохшую малину и расписывает «грибной мегаполис». Разумеется, начитался Замятина с его пародией на массовое сознание и попытался угодить современному массовому сознанию, создав поистине кичевую коллизию с идеологическим отравлением советских людей посредством пищевых добавок-травок. Начитался Набокова (рискнув назвать магические пассы «защитой Лужина»). Начитался Ильфа и Петрова, запомнив первую встречу Бендера и Корейко (устроив между своими персонажами тоже «целый сеанс обмена улыбочками») и их лирическое отступление о жизни в поезде как в полосе отчуждения (прямая ассоциация, хотя и без прямой ссылки возникает еще и потому, что поезд у Лукьяненко – «азиатский», «ты в пути… ты другой человек», и большая страна «плывет за окнами купе»). В число авторов, «используемых» в тексте и потому выстроившихся в единый ряд классиков, у автора, явно еще не «первого ряда», попадает даже современный мэтр, умело стилизующий прежнюю жизнь (персонаж говорит о загипнотизированном начальнике поезда, именующем его «ваше благородие» – «видать, Акунина начитался»).
Читать дальше