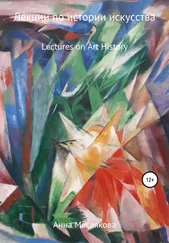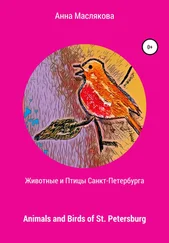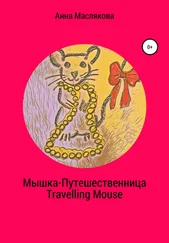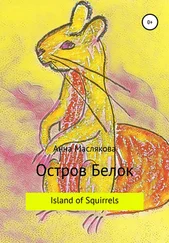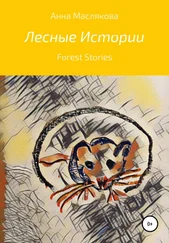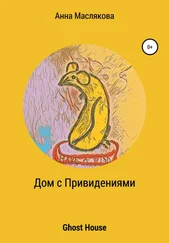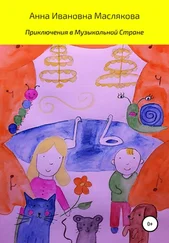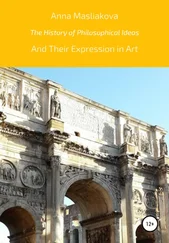«Бубновый валет» (художественное объединение, выросшее из одноименной выставки, прошедшей в 1910 году в Москве) во многом являлся реакцией на повышенный эстетизм и многозначительность символизма [230, 9]. Члены «Бубнового валета» (Н.С. Гончарова, В.В. Кандинский, М.Ф. Ларионов, А.В. Лентулов, К.С. Малевич и др.) считали, что картины предназначаются не для тонких ценителей и критиков, а для всех. Художники разрабатывали оригинальные, самобытные подходы к решению проблемы выразительных форм. Укажем, например, лучизм М.Ф. Ларионова, согласно которому форму следует конструировать из пересечения лучей, отраженных от предметов [142], или супрематизм (искусство свободных форм, беспредметность) К.С. Малевича [169]. В.В. Кандинский, являясь сторонником абстракционизма, отказывается от приближенного к реальности изображения предметов и наполняет свои живописные «импровизации» и «композиции» особым, внутренним звучанием [109, 59].
В это время начинает интенсивно развиваться новый вид искусства – кинематограф. Первый отечественный полнометражный фильм «Оборона Севастополя» вышел в 1911 году. Но если в немом кино музыка выполняла функцию сопровождения, то в театре ей отводилась более весомая роль. Необходимо отметить, что театр, «умеющий заставить поверить в несуществующее и усомниться в реальном», как нельзя лучше отвечал характерной для модерна тенденции к превращению среды в некое «игровое пространство», к балансированию на грани между объективной и воображаемой реальностью [285, 90]. Вообще игра, по мнению Й. Хейзинги, как «добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством радости, а также сознанием “иного бытия”, нежели “обыденная” жизнь» [320, 56], есть «основание и фактор культуры в целом» [320, 20]. А.Н. Скрябину же, начиная со среднего периода творчества, весь мир представлялся продуктом творчества, игры его «Большого Я» [92, 137].
Знаковым культурным событием было открытие в 1898 году в Москве Художественного театра, у истоков которого стояли К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко. Основу репертуара в первые годы составила драматургия А.П. Чехова (чеховская «Чайка» стала эмблемой нового театра) и М. Горького. Натуралистическая театральная эстетика К.С. Станиславского во многом перекликается с идеями Ф.И. Шаляпина, который был сторонником «правды чувства» [338, 94] и стремился выстроить роль таким образом, чтобы звук, жест и грим способствовали максимальному выражению определенной идеи (чтобы «колокольчик дрогнул и зазвонил» [338, 123]). Актеру, не изображающему (подражающему), а производящему эмоцию отводится особое место в партитуре спектакля. В ситуации театральной сцены именно обретение существования, «присутствие» («я есмь»), согласно мнению К.С. Станиславского, является главной задачей актера (подобная «тема самоутверждения» прослеживается в воззрениях А.Н. Скрябина на проблему творчества и находит поэтико- музыкальное выражение в «Поэме экстаза» 6 6 А.Н. Скрябин посетил один из вечеров, организованных К.С. Станиславским, где А. Дункан выразила желание станцевать «Прометея» [290, 151].
). Фактически человеческое тело предстает здесь не как физический организм, а как выразитель аффектов: в системе К.С. Станиславского актерская техника, «внешняя форма воплощения», становится неразрывно связанной с техникой переживания. Отметим, например, постановку «Синей птицы» М. Метерлинка (30 сентября 1908 года), один из многочисленных триумфов К.С. Станиславского (режиссерами также были И.М. Москвин, Л.А. Сулержицкий, художник – В.Е. Егоров, музыка И.А. Саца). Спектакль выделялся полным, совершенным слиянием в единое целое актерского исполнения, музыки, сценографии [304].
В 1904 году в Петербурге открылся театр В.Ф. Комиссаржевской. Огромный успех имели пьесы М. Горького «Дачники» и «Дети солнца», в репертуар также входили произведения А.П. Чехова, С.А. Найденова, Г. Ибсена. Здесь были представлены работы другого, не менее выдающегося режиссера – Вс.Э. Мейерхольда, апологета эстетики «условности», гротеска (спектакли «Сестра Беатриса» М. Метерлинка, «Балаганчик» А.А. Блока, «Жизнь человека» Л.Н. Андреева и др.) [182, 224]. В отличие от системы К.С. Станиславского, мейерхольдовская «биомеханика» ставит во главу угла тело в качестве одного из элементов театрального зрелища. Радикальная депсихологизация требует превращения актера в марионетку, в идеальный организм, не имеющий ничего «внутреннего» и обладающий чистой выразительностью, которая достигается правильным, рациональным использованием физических возможностей. Каждый актер был в определенном смысле музыкантом мейерхольдовского оркестра, одновременно виртуозом-исполнителем и инструментом, который ведет свою музыкальную партию, подчиняясь ритму, диктуемому режиссерской волей [183].
Читать дальше