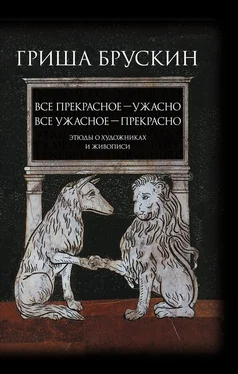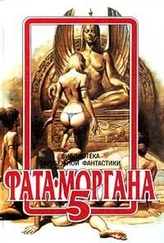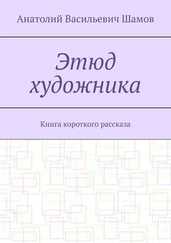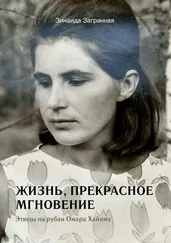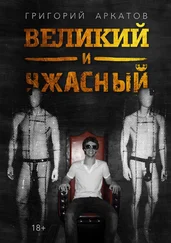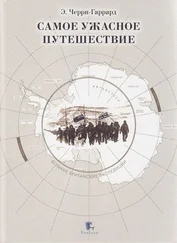Нечто подобное мы наблюдаем в картине Булатова «ХХ век». Пейзаж запечатан двумя красными крестами.
Заговорен.
Картина-оберег.
От кого?
От «какого хочешь чародея».
Чтоб не пропала и не сгинула перекрещенная художником Россия.
Возвращение блудного сына
Художник Эдуард Штейнберг мгновенно устанавливал контакты с людьми. Бросался в глаза контраст между образом простоватого парня со слегка приблатненной речью и мудреным эстетским искусством, которое этот парень творил.
Жили Штейнберги открытым хлебосольным домом.
Я с удовольствие хаживал к ним в гости.
* * *
Творчество Штейнберга – подарок искусствоведам формальной школы. И в абстрактных, и в фигуративных работах художника мы обнаруживаем вкус, тонкое чувство цвета, гармонии, формы, композиции, ритма. Умелое варьирование мотивов для достижения контекстуального богатства и т. д.
Но в данном случае речь пойдет об иных аспектах творчества.
Галина Маневич, вдова художника, в воспоминаниях писала, что многие усматривали связь между светлым колоритом ранних фигуративных работ Штейнберга и тональностью произведений Вейсберга. Помнится, у меня были сходные ассоциации.
Проблема «белого» была весьма актуальна в 60–70-е годы для неофициальных художников: работы Владимира Вейсберга и Эдуарда Штейнберга, картины «Портрет Севы Некрасова», «Брежнев в Крыму», первый вариант «Живу-вижу» Эрика Булатова, альбомы Ильи Кабакова.
Следует также вспомнить оказавшего влияние на многих, популярного в то время в московской художественной среде итальянского художника Джорджо Моранди. Именно оттенки Моранди играют в абстрактной живописи Штейнберга 70–80-х.
Далее след ведет к «белому на белом» Казимира Малевича.
Ну а если приглядеться внимательнее, мы увидим и у Штейнберга, и у Вейсберга, и у Моранди, и у Малевича, как отблеск далекой звезды, ясный свет фресок Пьеро делла Франческа.
* * *
В своем программном тексте «Письмо К. С. Малевичу» Штейнберг позиционирует свое творчество как постоянный диалог (вернее было бы сказать: монолог) с мэтром: «С тех пор диалог с Вами почти не прекращался. Вправе ли я на него рассчитывать?»
Диалог с Малевичем вел и знаменитый мастер Александр Родченко. Это также было одностороннее (со стороны Родченко) соревнование с великим мэтром. Которое можно было бы обозначить как «битва за новое». Художником двигало желание создать иное, нежели Малевич, новое. Если Малевич декларировал «белое на белом», то Родченко брался за «черное на черном». Результатом явились работы, которые, безусловно, можно назвать высочайшими достижениями мастера. Например, «Чистый красный, чистый желтый, чистый синий» (встречаются варианты названия: «Триптих», «Триптих из серии „Гладкие доски“»).
Для Штейнберга новое онтологично. Оно уже сделано раз и навсегда. «И ныне, и присно, и во веки веков». И это новое – Малевич. В штейнберговских небесах светит одно лишь светило. Таков мировой порядок художника. Посему здесь, под небесами, все должно быть как у великого мэтра.
* * *
В ХХ веке мы наблюдаем три волны абстрактного искусства: авангард 10–20-х годов (героический период), послевоенный период и абстракция в постмодернистское время.
Послевоенный период, за немногими исключениями (Ив Кляйн, Пьеро Манцони, Марк Ротко…), носит по отношению к первой волне более эстетский, декоративный характер.
Искусство Штейнберга органически вписывается в свое, послевоенное время. В нем нет постмодернистской рефлексии, игры, «стеба». Все на полном серьезе. Но и нет той ауры, которую излучают работы Малевича. Нет пафоса нового. Энергии открытия, отваги эксперимента, радикальности. Нет той теории. Того масштаба. Безумного замаха переделать жизнь и мир путем искусства.
Диалог Штейнберга с Малевичем – это клятва верности ученика учителю, рыцаря своему суверену.
* * *
Но так ли верен ученик учителю?
Идея абстракции как чистой формы, отрефлексированной как самоцель, стала возможна лишь в эпоху, когда появилась идея ценности искусства как такового. Искусства для искусства. То есть в эпоху modernity.
В наскальных петроглифах, в орнаментах всех времен и народов, в русских вышивках, в изображениях на древнегреческих вазах, в искусстве Ренессанса, в рисунках алхимиков и каббалистов геометрические знаки никогда не были чистыми абстракциями, то есть лишенными иного, кроме формы, смысла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу