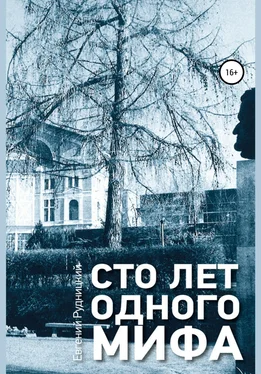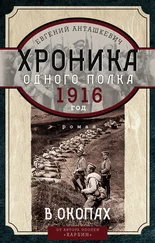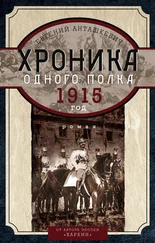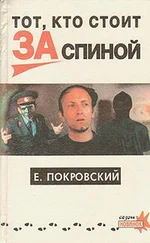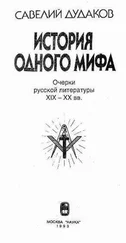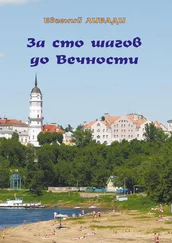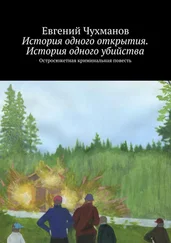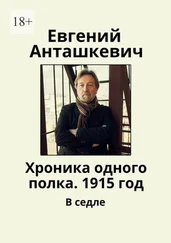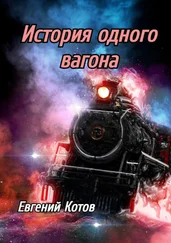* * *
В начале 1857 года жизнь Вагнера шла своим чередом. В автобиографии он пишет, что успешно трудился над партитурой Зигфрида , «имея перед глазами простой набросок карандашом». Одновременно он продолжал курс водолечения, надеясь, что к весне его наконец перестанут мучить рожистые воспаления. Что его в самом деле мучило и мешало работе, так это стук молотка жившего неподалеку жестянщика. Единственная польза от этого соседства – зазвучавший в Зигфриде заполошный стук молота нибелунга Миме, тщетно пытавшегося соединить (методом, именуемым ныне диффузионной сваркой) обломки разрушенного Вотаном меча Нотунг. При этом дальнейшее развитие получил антисемитский миф Вагнера, нашедший теперь свое выражение в образе Миме как главного антипода Зигфрида. В либретто Вагнер не пожалел для его описания черных красок. В соответствии с авторскими ремарками карлик был показан как «кузнец-образина», «позорный халтурщик», «жалкий коротышка», «старый, нелепый урод», занимающийся «чепухой». Автор также именует его «мерзким простофилей», «бугристым и серым, маленьким и кособоким, горбатым и хромым, с висячими ушами и глубоко сидящими глазами». Все это можно было бы рассматривать как обычные описания скверного сказочного персонажа, если бы не характеристика его пения, которое в соответствии с авторскими указаниями должно быть «пронзительным», «визгливым», порой даже «пронзительно жалобным». Невольно приходит на память то, что писал автор Еврейства в музыке , характеризуя синагогальное пение, будто бы отмеченное «пронзительной эксцентричностью», «взвизгиваниями, фальцетными нотами и многословием». Внимательно проследив развитие Вагнером его антисемитского мифа, Ульрих Дрюнер нашел также чисто музыкальные особенности характеристики Миме, позволяющие придать его образу еврейскую коннотацию: «Синкопированные стонущие интонации указывают на чуждые европейскому музыкальному искусству и обычные для клезмерской музыки украшения, которые доныне встречаются в популярной еврейской музыке, зародившейся в 1830 годы: Миме поет по-еврейски ». В подтверждение своего мнения Дрюнер берет себе в союзники одного из гениев интерпретации Вагнера Густава Малера, писавшего своей ближайшей подруге Натали Бауэр-Лехнер: «В этой фигуре <���Миме> Вагнер хотел иронически изобразить еврея (оснастив его соответствующими чертами: мелочной смышленостью, алчностью и подходящим музыкальным и словесным жаргоном)». Антипод Миме, его брат-нибелунг Альберих, также явно наделен еврейскими чертами, и его образ не менее важен для вагнеровского мифа. В связи с этим Ульрих Дрюнер приводит мнение одного из самых видных критиков творчества Вагнера Альфреда Эйнштейна, писавшего в 1927 году, что Вагнер представил в предвечерье тетралогии своего рода «мифическое гетто», где показаны два типа евреев: «более мелкий, ловкий, вкрадчивый, раздражительный Миме» и «напористо-демонический» Альберих. Те же черты братьев-нибелунгов прослеживаются и в Зигфриде .
Внезапно жизненные обстоятельства Вагнера резко изменились и, соответственно, сменилась парадигма его творчества: развитие личного мифа в его произведениях задержалось вплоть до последовавшей спустя семь лет встречи с Людвигом II. В разгар работы над партитурой Зигфрида он получил от Отто Везендонка неожиданное сообщение: тот приобрел на склоне горы в окрестностях Цюриха живописный земельный участок для строительства новой виллы, поскольку супруги решили окончательно поселиться в Швейцарии. На этом участке уже имелся вполне приличный трехэтажный фахверковый домик, который меценат готов был предоставить в полное распоряжение Вагнерам. Это предложение сулило избавление от многих проблем. Рихард получал возможность работать вдали от шумного города, а Минна могла заняться тем, о чем давно мечтала, – выращивать цветы, разводить клубнику и овощи. Но было еще одно обстоятельство, о котором, возможно, Вагнер думал с замиранием сердца. После некоторого охлаждения отношений с Матильдой, связанного в том числе с рождением у нее осенью 1855 года сына Гвидо, у него снова возникла надежда на сближение с любимой женщиной, которая должна была стать в ближайшее время его соседкой.
В марте Вагнера посетил бразильский консул в Дрездене доктор Эрнешту Феррейра-Франка. Узнав в тамошних музыкальных кругах о планах Вагнера написать музыкальную драму на сюжет о Тристане и Изольде, дипломат попросил композитора от имени императора Педру II дать разрешение на ее постановку в Бразилии, посулив за это приличное вознаграждение. Разумеется, новое произведение должно было стать оперой в итальянском стиле, что сразу же насторожило Вагнера и побудило его дать уклончивый ответ. Однако это предложение вкупе с изменившимися жизненными обстоятельствами и по-прежнему занимавшей его шопенгауэровской идеей отречения заставило его вскоре отложить в сторону грандиозный проект тетралогии и заняться другими сюжетами. В конце марта он опять встретился с Матильдой и снова, по словам Грегора-Деллина, «с надеждой заглядывал ей в глаза». Предложение Везендонков было принято, и Вагнеры занялись обустройством нового жилища.
Читать дальше