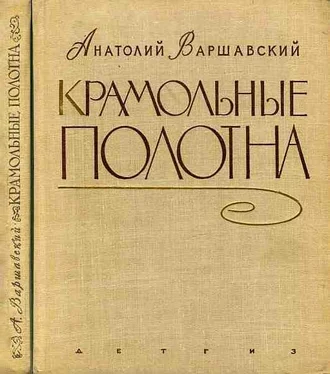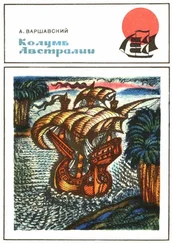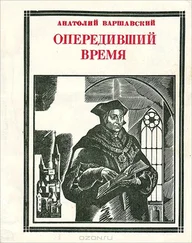Вначале он хотел вообще уничтожить ее. Но потом соблаговолил передумать. Он решил приодеть всех — и праведников, и грешников, и святых.
Микеланджело, узнав об этом, сказал: «Передайте папе, что это дело маленькое и уладить его легко. Пусть он мир приведет в пристойный вид, а с картинами это можно сделать быстро».
Понял ли папа глубину иронии Микеланджело? Трудно сказать. Во всяком случае, Павел IV отдал соответствующие приказания.
И вновь в Сикстинской капелле были сооружены леса. На них с краской и кистями взобрался живописец Даниеле да Вольтерра. Он трудился долго и усердно: предстояло пририсовать немалое число всяческих драпировок.
За свою работу да Вольтерра еще при жизни получил прозвище «брачетоне». В буквальном переводе оно означало «оштаненный», «исподнишник».
Злоключения фрески на этом не закончились. Уже после смерти Микеланджело и при другом папе, Пии V, ту же работу продолжил еще один художник, Джироламо да Фано.
Как ни осторожно действовали оба «исподнишника», они нанесли немалый урон картине: пострадала гармония красок и линий.
В 1596 году очередной инквизитор на папском троне, Климент VIII, вновь чуть было не заставил уничтожить крамольную фреску.
К счастью, его отговорили.
В 1762 году, через двести с лишним лет после окончания работ, великую фреску изуродовали еще раз. По повелению Климента XIII, художник Стефано Поцци снова занялся «одеванием».
* * *
Эта замечательная картина, против которой оказались бессильными глупость, лицемерие и ханжество католических владык, и ныне восхищает людей. И, хотя подрисовывавшие драпировки художники и попортили фреску, хотя покрылась она трещинами и слоем копоти от кадильниц, по-прежнему остается она одним из самых великих творений человеческого гения.

Ему так и не удалось справиться с мучившим его страхом, и то, что на самом пороге он, споткнувшись, едва удержался на внезапно обессилевших ногах, неловко выкинув вперед левую руку, и то, что члены трибунала, вероятно, заметили его волнение, было ему неприятно и злило его. И куда-то в сторону, в полумрак, сгущавшийся в углах этой высокой, со сводами комнаты, ушли сказанные им слова приветствия, вырвавшиеся у него почти непроизвольно, слова, сказанные главным образом для того, чтобы хоть как-то приободрить самого себя.
Члены высокого суда не ответили ему. Они молча ждали, пока он займет указанное ему место. Неподвижные, равнодушные, в черных одеяниях, они ждали, пока он сделает эти несколько шагов, отнюдь не торопя его, спокойно восседая в своих креслах с высокими спинками. Черные прямые тени за их плечами были неподвижны и сумрачны.
Ему не предложили сесть, и никто из судей не подал виду, что давно знаком с ним. Ему и не на что было сесть — в комнате, кроме покрытого черной скатертью стола и кресел для членов трибунала, не было никакой мебели. Теперь он стоял перед этим длинным и узким столом, впрочем, на достаточном расстоянии от судей, и светильник с тремя толстыми оплывшими свечами, придвинутый секретарем трибунала к самому краю стола, слепил ему глаза.
— Ваше имя, ваша профессия, где вы проживаете? — спросил секретарь, обмакивая в грязноватую чернильницу толстое, хорошо очиненное перо.
Он ответил.
И то, что эти обыденные вопросы, нарушив гнетущую тишину, были именно обыденными и чисто формальными — кто в Венеции не знал его имени, — подействовало на него несколько успокаивающе, хотя он и понимал, что сами по себе эти вопросы ровным счетом ни о чем не свидетельствуют, в том числе и о намерениях вызвавших его на допрос судей. И еще он подумал, что именно так и представлял себе начало допроса в тот момент, когда, вскрыв черный конверт с гербовой печатью, медленно читал очень четко и очень ясно (у секретаря был хороший почерк) написанное приглашение явиться в трибунал святой инквизиции, в часовню Сан-Теодоро.
Он не показал этого письма жене. Зачем? И, даже садясь в гондолу возле домашнего порога, где волны захлестывали ступеньки и покрывали их зеленым илом, он тоже ничего не сказал ей. Но она, видно, почувствовала что-то неладное, и всю дорогу, пока он плыл по лабиринту узеньких и широких каналов, пока гондола один за другим миновала бесчисленные мосты, ее скорбное лицо, ее печальные глаза стояли перед ним.
Читать дальше