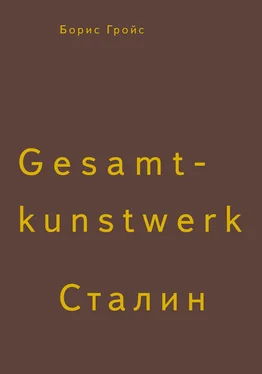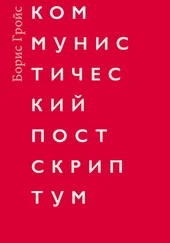Поэтому в работе «Ялтинская конференция» Комар и Меламид создают как бы икону новой Троицы, правящей современным подсознанием. Фигуры Сталина и ET [80], символизирующие утопический пафос, владеющий обеими империями, обнаруживает здесь свое троичное единство с национал-социалистической утопией побежденной Германии. Здесь следует сказать, что Комар и Меламид в своей художественной практике исходят из этого внутреннего родства основных идеологических мифов современности. Так, в одном из интервью Меламид обозначает общую цель всех революций – «остановить время» – и в этом отношении уравнивает между собой «Черный квадрат» Малевича и новый классицизм Мондриана, тоталитарную практику Гитлера и Сталина и живопись Поллока, породившего «представление об индивидуальности, которая движется по ту сторону истории и времени и мощно, как тигр, уничтожает все, чтобы остаться одной, – что является весьма фашизоидным представлением об индивидуальности» [81]. Этот дух внеисторической утопии, который действительно хорошо символизируется фигурой ET , дух, направленный против постоянного изменения, против самого течения времени, Меламид усматривает также в американском искусстве и в американской жизни.
Правда, Комар в том же интервью более осторожен и отличает «сталинскую» революцию от перманентной революции Троцкого, которая движется вместе с историей и не ставит себе окончательных целей. Здесь можно сказать, что сама история для художников движется попытками ее остановить, так что каждое движение содержит в себе утопический потенциал, одновременно и толкающий историю вперед, и перекрывающий ее движение. Утопия оказывается, таким образом, не тем, что просто следует преодолеть, от чего следует раз и навсегда отказаться, – такое решение само было бы утопичным, – но предстает амбивалентным началом, имманентным всякому художественному проекту, в том числе и антиутопическому, природу которого следует отрефлектировать средствами социального психоанализа, не различающего между собой и другими, между историей личной и политической.
Постутопическое советское искусство 1970-х годов характеризуется с формальной стороны прежде всего возвращением к нарративности, противостоящей авангардному отказу от всякой литературности – возвращением, уже подготовленным нарративностью социалистического реализма. При этом речь менее всего идет, как и в случае сталинской культуры, о простом возвращении к доавангардной бытописательности. За чистым и окончательным жестом классического авангарда обнаружился авангардный миф, без которого этот жест не может быть понят и даже просто не может состояться, – миф, легитимирующий нарратив в виде идеологически выстроенной модернистской истории искусств, которая повествует о постепенном освобождении художника от повествовательности. Если на Западе этот миф обычно принимается как само собой разумеющийся, то в условиях послесталинской России он был естественно поставлен под сомнение через сопоставление с конкурентным ему сталинским мифом о «положительном герое», «новом человеке», демиурге «новой социалистической действительности». Между этими двумя, по видимости взаимоисключающими мифами немедленно обнаружилось, если употребить здесь термин Витгенштейна, «семейное сходство»: история отрекающегося от прошлого, одинокого и страдающего героя-авангардиста, одерживающего конечную победу над косным миром и преображающего его, история, описывающая как онтогенез, так и филогенез модернистского искусства, оказалась как две капли воды похожа на агиографическое описание героев сталинских пятилеток, являющихся, с этой точки зрения, некоторым фрагментом модернистской «многолетки», вроде истории Павки Корчагина из романа Островского «Как закалялась сталь», на котором воспитывались поколения советской молодежи.
Художники соц-артисты тематизировали в первую очередь этот скрытый авангардистский нарратив, этот миф о художнике-творце, пророке и инженере и постарались продемонстрировать, пользуясь приемами сталинской идеологической обработки, его родственность мифам как Нового времени, так и прошедших времен, и тем самым реконструировать единую мифологическую сеть, в которой движется современное сознание. Естественно, что новое обращение к нарративу не могло не обратить на себя внимание литераторов, прежде запуганных как авангардистской борьбой со всякой последовательностью, так и крахом повествовательной эстетики сталинского времени. Несколько позже, чем в визуальных искусствах, в конце 1970-х – начале 1980-х годов, появился целый ряд литературных произведений, в которых новая культурная ситуация нашла себе адекватное выражение. Здесь мы укажем только на некоторые из них.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу