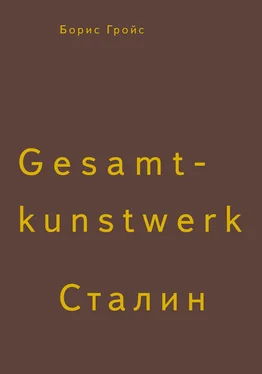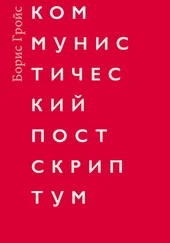Завершение НЭПа в то же время означало ликвидацию частного рынка искусства и полный переход всех «отрядов советского художественного фронта» к работе исключительно по государственным заказам. Вся культура стала, согласно знаменитой ленинской формулировке, «частью общепартийного дела» [28], а в данном случае – средством мобилизации советского населения для выполнения партийных программ по перестройке страны. Тем самым исполнилось желание вождя ЛЕФа Маяковского, чтобы его стихи разбирались правительством наряду с другими достижениями «трудового фронта», чтобы, как он писал, «к штыку приравняли перо», чтобы он, как и любое советское предприятие, мог отчитаться перед партией, подняв «все сто томов своих партийных книжек», и чтобы общим памятником «всем нам» стал «построенный в боях социализм». Мечта авангарда о переходе всего искусства под прямой партийный контроль с целью жизнестроительства, т. е. «построения социализма в одной стране» как истинного и завершенного произведения коллективного искусства, таким образом, сбылась, хотя автором этой идеи стали не Родченко или Маяковский, а Сталин, унаследовавший по праву полноты политической власти их художественный проект.
Но и они сами, как уже говорилось выше, были внутренне готовы к такому повороту дела, стоически ожидая «великого разводящего». Главным для них было единство политико-эстетического проекта, а не вопрос о том, будет ли это единство достигнуто путем политизации эстетики или эстетизации политики, – тем более что эстетизация политики явилась со стороны партийного руководства лишь реакцией на авангардистскую политизацию эстетики после того, как партия долгое время стремилась сохранить определенный нейтралитет в борьбе различных художественных группировок, каждая из которых посредством политических обвинений оппонентов буквально вынуждала партию вмешаться и принять какое-то решение.
Характерно, что эта длительная стратегия относительного нейтралитета привела к тому, что большая часть творческой интеллигенции восприняла решение 1932 года с радостью. Это решение в первую очередь лишало власти руководство влиятельных организаций, таких, как РАПП или АХРР, которые обрели к концу 1920-х – началу 1930-х годов практически монопольное положение в культуре и преследовали всех неугодных средствами политической травли. В частности, именно РАПП и АХРР, а вовсе не Сталин, фактически ликвидировали авангард как активную художественную силу, символом чего стало самоубийство Маяковского, незадолго до того вступившего в РАПП с целью избежать травли. Именно Маяковского Сталин провозгласил затем «лучшим поэтом советской эпохи». Ведущими писателями сталинского времени стали многие близкие авангарду «попутчики»: Эренбург, издававший в Берлине вместе с Лисицким конструктивистский журнал «Вещь», или входивший в «Серапионовых братьев» Каверин. Печатались в сталинское время Шкловский, Тынянов, Пастернак и др. В то же время сделали себе карьеру и «попутчики» более консервативного направления, которым РАПП не давал ходу. Поэтому можно сказать, что Сталин в определенной степени действительно оправдал надежды тех, кто полагал, что прямое управление со стороны партии будет более терпимым, нежели власть отдельных художественных группировок. О Сталине было как-то удачно сказано, что он типичный политик золотой середины, уничтожающий все, что ему представляется крайностью. Взяв на себя прямое управление культурой, Сталин пришел со своим собственным проектом и был готов принять любого, кто безоговорочно готов этот проект осуществлять, вне зависимости от того, из какого лагеря он пришел. И даже, напротив, настаивание на какой-либо исключительности, на каких-либо прошлых заслугах свидетельствовало о претензии «быть умнее партии», т. е. самого вождя, и потому беспощадно каралось, отчего и получился тот часто удивляющий посторонних наблюдателей эффект, что в первую очередь Сталиным ликвидировались как раз наиболее рьяные защитники партийной линии. Не случайно поэтому, что торжество авангардистского проекта в начале 1930-х годов совпало с окончательным поражением авангарда как оформленного художественного движения. Такое подавление авангарда не требовалось бы, если бы квадратики и заумные стишки авангарда действительно замыкались в эстетическом пространстве. Само по себе преследование авангарда показывает, что он действовал с властью на одной территории. Эстетическо-политический переворот, произведенный Сталиным, был осуществлен по всем правилам военного искусства, и ему предшествовал ряд совещаний, в которых участвовали, кроме Сталина, высшие руководители партии и страны – Молотов, Ворошилов, Каганович, а также ряд писателей, многие из которых были затем расстреляны (Киршон, Афиногенов, Ясенский и др.) [29]. С того времени стало действительно принято, как этого и требовал Маяковский, чтобы высшие партийные чины в своих речах о положении дел в стране одновременно с анализом успехов в сельском хозяйстве, индустрии, политике и обороне высказывались бы и о положении дел в искусстве, формируя понятия «реалистического», устанавливая желательные взаимоотношения между формой и содержанием, разрешая проблемы типического и т. д. Возражение, что Ворошилов или Каганович, равно как и сам Сталин, не были литературоведами или искусствоведами, здесь, разумеется, не релевантно: они формировали канон практически единственного разрешенного к созданию произведения искусства – социализма – и в то же время были единственными критиками созданного ими канона. Они были знатоками единственной необходимой поэтики – поэтики построения нового мира, единственного жанра – демиургического. А потому были вправе давать указания, как относительно производства романов и скульптур, так и относительно выплавки стали и посадки свеклы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу