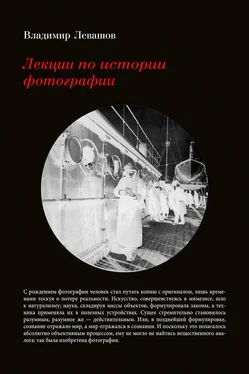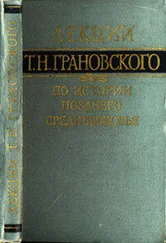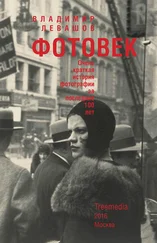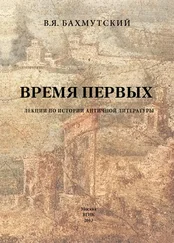Находясь под впечатлением от творчества живописца Джеймса Уистлера, Кобурн экспериментирует с изображением при помощи различных объективов, а то и вовсе заменяя их карточкой с булавочным отверстием в ней. В 1903-м (в возрасте 21 года) он становится членом The Linked Ring , а также выступает соучредителем Фото Сецессиона . В это время переходит от чистой платинотипии, в которой по большей части работал, к манипуляциям с гуммиарабиком в сочетании с платинотипией.
В 1904–1906 годах Кобурн путешествует по Англии и континентальной Европе и фотографирует. А в 1910-м ездит по американскому Западу, снимая Большой каньон и другие природные виды. Возвратившись в 1912-м в Нью-Йорк, Кобурн делает здесь свои последние американские фотографии – серию изображений с верхушек небоскребов, направляя камеру сверху вниз. В 1913-м в Лондоне он показывает эту серию в виде выставки «Нью-Йорк с его вершин» (New York from Its Pinnacles) и с этого момента движется в сторону абстракции, сотрудничая с группой вортицистов (Vorticism) и издаваемым ими журналом Blast (2 номера, 1914–1915). В 1916-м Кобурн выставляет виды Большого каньона , вортицистские портреты Эзры Паунда (Ezra Weston Loomis Pound, 1885–1972) и Мариуса де Заяса (Marius de Zayas, 1880–1961), а также публикует статью «Будущее пикториальной фотографии» (The Future of Pictorial Photography). В ней Кобурн предлагает применять множественную экспозицию и забытые виды перспективы, виды, получаемые с помощью микроскопа, призмы и прочего: «Делайте даже то, что кажется возмутительным, если вам это нравится, главное пусть это выглядит свежо (…) Если невозможно быть «современным» в новейшем из всех искусств, то уж лучше закопать в землю наши черные ящики».
В конце 1916–1917 годах появляются его первые вортограммы (vortographs, беспредметные изображения, сделанные с помощью калейдоскопического зеркального приспособления), но одновременно он продолжает заниматься портретом. В 20-е Кобурн увлекается масонством и мистицизмом и сохраняет приверженность им до конца жизни. В 1923-м, после выставки в Королевском фотографическом обществе , он все меньше времени посвящает фотографией. В 1930-м Кобурн дарит Королевскому обществу обширную коллекцию фотографий своих предшественников и современников. Получив британское гражданство, он обосновывается в Уэльсе , и в середине 50-х вдруг снова начинает снимать – виды природы и другие сюжеты.
Для Кобурна, как и для Стиглица и Стайхена, пикториализм становится чрезвычайно важной, однако не единственной стадией творческой эволюции. Другое дело, что траектория кобурновской фотографии оказывается гораздо более короткой, хотя и не менее выразительной. Пикториалистические поиски приводят его к оптической абстракции. Случай Кобурна демонстрирует, что в основе подобного перехода обычно лежит не умозрительность, не идеологическая программность, но абсолютно конкретный и естественный визуальный опыт. Кобурн обнаруживает оптическую выразительность высоких точек зрения сначала в съемке Большого каньона, где его взгляд почти принудительно обращается вниз, впервые открывая ранее незаметные оптические сокровища. Затем фотограф уже сознательно выбирает подобный ракурс и сопутствующую ему абстрактную фактуру, снимая с верхних этажей небоскребов искусственный каньон, образующийся «ущельями» Нью-Йоркских улиц. Следующий шаг совершается, когда его внимание привлекает к себе формообразующая роль перспективы и начинается исследование ее возможностей в фотографических экспериментах уже в рамках практики тогдашнего художественного авангарда.
Парадоксальным образом ракурсная фотография 1920-х не увидит в Кобурне своего прямого предшественника – в этом смысле он так и останется одинокой фигурой. Скорее, фотоавангардисты будут опираться на опыт документирующей, функциональной съемки. Самые ранние образцы аэрофотосъемки принадлежат, как говорилось ранее, еще Надару, поднявшемуся в 1858 году на воздушном шаре и затем указавшему в своих записях на эстетическую (и абстрагирующую) роль дистанции: «Поля, выглядящие как неправильные шахматные доски или как лоскутные одеяла, сделанные из многоцветных, но гармонизированных заплат, сшитых вместе при помощи терпеливой иглы белошвейки (…) Все предстает перед нами как изысканное впечатление чудесной, восхитительной чистоты! Ни оттенка убожества или пятен грязи в этом пейзаже. Ничто так как дистанция не отделяет нас столь решительно от любого уродства». Первые же фотографии с аэроплана, датируемые 25 июля 1909 года, принадлежат Луи Блерио (Louis Bleriot, 1872–1936), впервые перелетевшему Ламанш. Во времена Первой Мировой войны аэрофотографию используют уже весьма активно. К примеру, во Франции формируются фотографические соединения, комплектующиеся камерами Vest Pocket Kodak (которых в 1912–1926 годах выпущено 1,8 миллиона штук), а затем и камерами формата 18х24 см (с магазинами по 12 пластинок) – до момента битвы под Верденом в августе 1917-го с их помощью сделано несколько тысяч снимков. Подобные приемы наблюдения и визуальной фиксации (аэрофотография и съемка с высоких точек, таких, как башни или колокольни), утверждающиеся в период Первой Мировой войны, оказывают значительное влияние на трансформацию современных оптических стандартов, разрушая прежде незыблемые формы репрезентации, создавая новую грамматику видения и, соответственно, оказываясь фактором художественного влияния. Полет и вид сверху рождают тот тип композиционных построений, который становится основой беспредметных произведений русских супрематистов. Более того, в подобном ракурсе в эту пору рассматривают и произведения, на самом деле не имеющие никакого отношения к полетам и взгляду с небес на землю. Так, например, знаменитый снимок Мэн Рея «Взращивание пыли» (Elevage de poussiere, 1920 ) , на котором изображена пыльная поверхность «Большого стекла» (Grand Verre) авангардиста Марселя Дюшана, впервые (в 1922-м) публикуется под названием « Вид, снятый с аэроплана ».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу