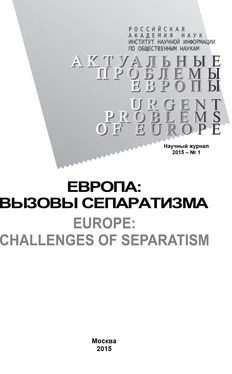Шестое. Из сказанного выше вытекает принципиальная общая несопоставимость сепаратистских и автономистских устремлений и связанных с ними конфликтов в плане безопасности – локальной, региональной и международной.
Седьмое. Разительно отличается правомочность автономизма и сепаратизма – с точки зрения как международного, так и внутреннего права. Требования территориальной автономии или расширения автономных прав могут не удовлетворяться, но их выдвижение в современном мире невозможно сделать объектом законодательных запретов. Легальность даже мирного сепаратизма гораздо проблематичнее, ибо он вступает в противоречие с принципом территориальной целостности, закрепленным в национальных конституциях и законодательствах и основополагающих международно-правовых актах.
Лишь три государства в мире признают в конституциях право на сецессию. Это Эфиопия, Узбекистан (в отношении Каракалпакстана) и карликовая островная Федерация Сент-Китс и Невис.
В ряде стран есть специальные законы об ответственности за те или иные действия, направленные против территориальной целостности (в конце 2013 г. такой закон принят и в России). В других, прежде всего западных, демократиях преследование сепаратистских целей мирными средствами практически допускается. Впрочем, и в странах Запада эта практика стала превращаться в стандарт лишь в последние два-три десятилетия.
Однако, даже когда сами сепаратистские движения считаются «по умолчанию» правомочными, их цели остаются антиконституционными. Именно таков смысл заключений, которые уже в самый последний период (1998–2014) выносили верховные суды и другие уполномоченные органы Канады, Великобритании, Дании, Испании, Италии при рассмотрении проектов референдумов о независимости (или иных актов, таких как новый Статут Каталонии) соответственно Квебека, Шотландии, Фарерских островов, Каталонии и северных регионов Италии (в частности, Венето).
В тех единичных случаях, когда центральные власти (Лондон, Оттава) готовы признать результаты референдумов и допустить отделение территории, эта перспектива подчеркнуто трактуется не как основанная на праве (и на одностороннем волеизъявлении региона), а как возможный результат договоренности, которую предстоит достичь 6 6 Например, Верховный суд Канады в постановлении от 1998 г. указал, что односторонняя сецессия Квебека является незаконной, но что в случае соответствующего волеизъявления на референдуме у остальной Канады «не будет оснований отрицать право правительства Квебека добиваться отделения» и в этом случае должны будут последовать переговоры об условиях отделения (10, c. 220).
. Такую модель сецессии называют процедурной в противовес нормативной.
Более того, упоминания о территориальной целостности, имеющиеся в разных законах любой страны, в принципе позволяют признать нелегальной разную по характеру сепаратистскую деятельность (см.: 5, с. 47–48). Европейская конвенция по правам человека в ст. 10 прямо говорит о возможности определенных ограничений (и санкций) на свободу выражения и распространения мнений и идей, а именно таких, «которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка…» (3).
Так что легальность 7 7 Проблема легитимности сепаратизма затрагивается нами в статье «Многообразный сепаратизм: Проблема типологии и европейские реальности» в настоящем издании.
сепаратизма повсюду остается зыбкой. Ее степень в каждом случае решающим образом зависит от правоприменения, которое, в свою очередь, определяется правосознанием, политической и правовой культурой, особенностями режима, актуальностью проблемы и ее восприятием, текущей конъюнктурой и т.д.
В международном праве, как известно, имеются серьезные лакуны и противоречия, касающиеся ситуаций, связанных с сепаратизмом. Ни прямых запретов на сецессию, ни права на нее (вне контекста деколонизации) оно не содержит. Коллизия между основополагающими принципами ООН – территориальной целостности и суверенитетом государств, с одной стороны, и правом на самоопределение – с другой, оставляет поле для различных толкований и самой сферы применения права на самоопределение, и допустимых форм его реализации. Последнее вопреки довольно распространенному заблуждению закреплено не за «нациями», а за «народами» (в английском варианте Устава ООН – «nations», в остальных – «народов», «peuples», «pueblos», «Volker» и т.д.).
Читать дальше