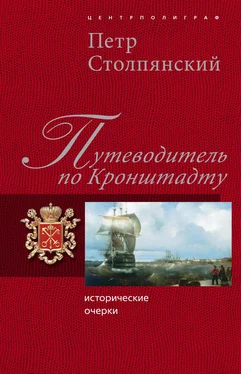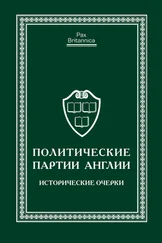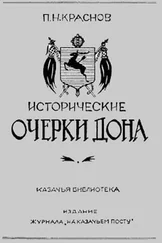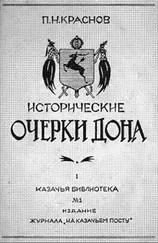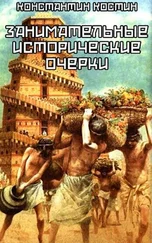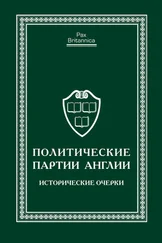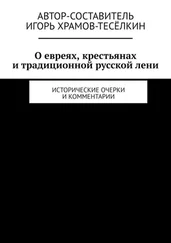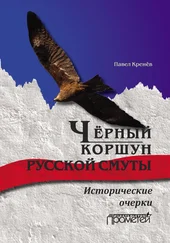Прогресс в устройстве зимней дороги главным образом выражался лишь в постановке нескольких будок с колоколами; часовые в этих будках во время метели должны были звонить через несколько минут и, таким образом, не давать путникам возможности сбиться с пути.
Петербуржец, желавший проехаться в Кронштадт, отправлялся (речь идет о 1830– 1850-х годах) на Козье болото – так звалась нынешняя площадь в Малой Коломне, в которую упирается теперь Торговая улица и на которой возвышается неуклюжий храм Воскресения. На этой площади стояли повозки кронштадтских извозчиков.
Это были крытые возки, запряженные парой небольших чухонских лошадок, коренник под большой расписной дугой, пристяжные наотмашь, с мелкими бубенцами; в кибитке было навалено достаточное количество сена – оно служило и для сидения, и для укутывания ног. Плата за проезд в такой кибитке бралась от 6 до 10 рублей, смотря по лошадям, состоянию дороги и, конечно, состоянию проезжавшего.
Часа в два, с небольшой передышкой посредине пути, в указанном кабачке, где можно было выпить рюмку водки, съесть пирожок, бутерброд, а в масленичные дни заказать и порцию блинов с семгой или свежей икрой, путник достигал Кронштадта, Петербургских ворот, которые на обратном пути были иногда очень и очень неприятны для путешественника. У этих ворот была таможня. «Вы желали отправиться в Петербург, – так рассказывалось в то время, – нанимаете кибитку, укладываете свои вещи, садитесь и отправляетесь до Петербургских ворот. Здесь вы обязаны выйти из кибитки, открыть ваши чемоданы, саки, картонки, на морозе или в караульном доме, где произведется обыск или обряд таможенного очищения. Лишь вы уселись в кибитку и хотите тронуться в путь, не тут-то было – является новая личность в сером зипуне и с белой бляхой на груди – это уже досмотрщик от пути, который без всякой церемонии начинает длинным железным прутом щупать по всем направлениям кибитки». Только после такого двойного таможенного осмотра пассажир былого старого Кронштадта мог выехать из него, а чтобы вернуться в него обратно, он должен был иметь билет или с места службы, или от полиции. Кронштадт, как крепость, считался под усиленной, особой охраной.
Делались неоднократно попытки улучшить зимнее путешествие в Кронштадт. Так, в 1861 году местная газета заявляла: «Мы слышали, что кто-то намерен устроить зимнее сообщение на оленях – но это предположение так и осталось предположением». Затем с того же 1861 года начали не только мечтать, но и делать попытки устроить сообщение по льду помощью железной дороги. Для этого, конечно, выбирали направление на Ораниенбаум. Инициатором такой попытки был некто Солодовников, который зимой 1861/1862 годов предполагал пустить два поезда с платою в первом классе 75 копеек, во втором 50 копеек и в третьем 25 копеек. «Вагон первого класса будет теплый, с камином, обит коврами», – захлебывался от восторга рецензент, но у Солодовникова дальше благих пожеланий не пошло, и его проект осуществился в 1881 году, когда 27 января прошел первый пробный поезд по льду между Ораниенбаумом и Кронштадтом. Но и эта попытка кончилась для устроителей большим дефицитом. Через несколько дней после открытия дороги подул западный ветер, начался ледоход, рельсы железной дороги сдвинулись и пришлось прекратить сообщение.
Затем пытались пускать между Петербургом и Кронштадтом общественные дилижансы – сани-кареты, но и они приносили убыток, и кронштадтский извозчик, несмотря на то, что его звали «лицом мифическим», все же в конечном результате, оставался более надежным способом передвижения. В 1868 году появилась железная дорога на Ораниенбаум, большинство стало пользоваться ею, а оставшиеся между Кронштадтом и Ораниенбаумом 6–7 верст делало по образу пешего хождения, хотя это пешее хождение было не всегда безопасно. Так, в 1862 году машинист одного из хозяйственных заведений Ораниенбаумского дворцового правления, пробираясь ночью из Ораниенбаума в Кронштадт, в темноте попал в полынью, однако же удержался за край льда. Место было неглубокое, но лед был так гладок, что несчастный не мог вскарабкаться. На другой день его нашли замерзшим, по грудь в воде и держащимся за край льдины. Мороз был довольно велик, и кругом трупа медленно замерзала вода. На льдине около руки мертвеца были найдены ножик и трубка. Ночь была звездная, и огни Ораниенбаума и Кронштадта были видны с того места, где погиб несчастный.
Но если встреча с замерзшим была, конечно, очень редким исключением, то другие картинки, вроде нижеследующих, были обычным явлением. «Верст с 2-х или 3-х от Кронштадта возле самой дороги лежит, по-видимому, давно павшая лошадь, над трупом которой стаями вьются вороны, а обглоданные, красноватого цвета ребра ее производят на путешествующих очень неприятное впечатление». Точно так же большой неприятностью для ездока была встреча с одним из многогочисленных торговых обозов, тянущихся из Петербурга в Кронштадт и обратно. Приходилось, свернув в сторону, ожидать проезда или обгонять этот обоз стороной, по целине. В 90-х годах XIX столетия, впрочем, стали прокладывать две дороги: одну для торговых обозов, другую – для легких подвод.
Читать дальше