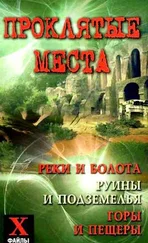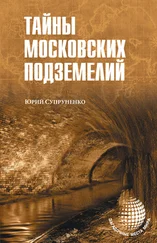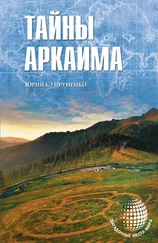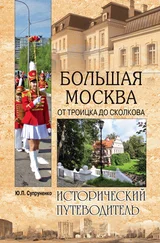Монастырский собор посвящен памяти святого Николая; в нем хранятся многие регалии и переносные иконы – Николая Чудотворца, а также две иконы Богородицы – «Млекопитательницы» и «Всецарицы». Последняя из них чудесным образом уцелела после многочисленных пожаров и была посвящена в монастырь (так принято формулировать нахождение святынь) одной из византийских цариц из династии Палеологов.
Поразила Барского и монастырская библиотека. Ныне она представляется бедноватой по сравнению с аналогичными собраниями в других обителях. Но экспонаты хорошо организованы и классифицированы, здесь имеются иллюстрированные пергаменты и рукописные листы. Древности представляют настолько большую ценность, что привлекают внимание международных контрабандистов, как это случилось недавно. Некий охотник за антиквариатом, Симонидис, похитил и увез в Лейпциг часть единственной в мире рукописи «Пастыря Гермы». Ныне в монастыре проживает около 70 монахов – вполне здравствующая обитель по афонским меркам.
Книга Барского считается наиболее древним описанием русского паломничества по Афону, с рассказами обо всех монастырях и святынях, проиллюстрированными собственными рисунками. А вот самым полным, можно сказать энциклопедическим сводом афонских обычаев и преданий, являются письма иеросхимонаха Сергия (Веснина) – «Письма святогорца» (1844–1849).
Совершенно другим по стилю и восприятию увиденного является «Сказание о Святой земле постриженика святые Горы Афонские инока Парфения». Пустынножитель Парфений (Порфирий, в миру Агеев) жил на Афоне в 1839–1854 годах и написал свои впечатления о странствиях в Россию, Молдавию, Турцию и Святую землю; его произведение считается лучшим описанием Афона, и не зря сам автор назван «афонским Гоголем». А современники писали об этой книге как о «великой поэтической фантасмагории, переданной оригинальным художником на оригинальном языке», тут же высокопарно добавляя, что не встречалось такого большого таланта со времен Гоголя. Это безыскусный, местами нарочито примитивный, даже лубочный рассказ о путевых впечатлениях, тем не менее он поражает глубиной понимания христианских святынь. Подобный труд можно считать одним из первых документов паломнического туризма, на бумаге зафиксировавший отчет о зародившемся виде путешествий. В дальнейшем о своих паломнических впечатлениях писали Н.В. Гоголь, И.А. Бунин, Н.С. Лесков, Н.К. Рерих, Н.С. Гумилев, другие литераторы поэтически-вдохновенного склада.
Поэтов странствия по свету
Пора настала воспевать,
Чтоб путеводную комету
Стихами снова озарять,
Чтоб люди нынешние знали,
Что и в былые времена
Поэты русские взлетали
В скитаний дальних стремена.
…И мы, идущие сегодня
По тем же путаным путям,
Осознаем, что длань Господня
Вновь открывается и нам.
Святая гора Афон произносилась в Западной Европе как Атос-гора. Отсюда идет и прозвище Атос, запечатленное Александром Дюма-отцом в знаменитом романе. Это символ воплощенного благородства, так, по своей приходской церкви, звалось и родовое имение Армана де Силлег д’Атос д’Отвьель, исторического прототипа литературного героя фрацузского романиста. Благородство мушкетеров общеизвестно, их рыцарские устремления вошли в поговорки, романтизм наложил отпечаток на целую эпоху. Слово для католиков возвышенное, что уж говорить о православных, которым Афон (Атос) сияет светом незакатным.
Это что касается серьезной топонимики. Но рядом с ней присутствуют и курьезы. У греческой горы имеются двойники, и где, казалось бы, – на Чукотке! Афос – одна из трех гор на острове Аракамчечен недалеко от Чукотского полуострова. В 1856–1857 годах были выпущены карты этих мест, составленные американским мореходом Дж. Роджерсом. Видимо, решив, что гора Афос названа в честь одного из героев знаменитого романа А. Дюма – Атоса, он и соседним горам присвоил имена мушкетеров. Так появились эти Афос, Авамис и Атагнан (в произношении местных чукчей – Атос, Арамис и д’Артаньян). Для полного состава недалеко возвышается и гора еще одного мушкетера – Портоса. Вот такие связи времен и пространств: Афон – Атос – Афос, Греция – Чукотка.
В свое время Афон послужил прообразом горы Спасения (на старофранцузском – Монсальват) в рыцарских романах Средневековья. Дал он и толчок к появлению горы Очищения в «Божественной комедии» Данте – по ней автор-поэт, сопровождаемый Беатриче, поднимается на небеса. То есть это был тот символ воплощенного благородства, который рождается через возвышение – духовное и физическое. Не зря монашеская республика со Священной горой Афон легла в основу идеальной «Утопии» Томаса Мора. И посещали ее многие персонажи, в их ряду путешественники, начиная с загадочного сэра Джона де Мандевиля (ок. 1300–1372). А также лорд Байрон, написавший:
Читать дальше
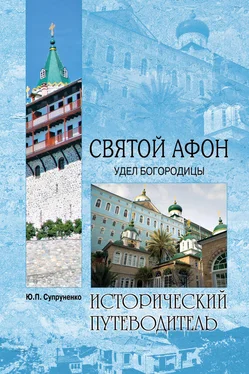
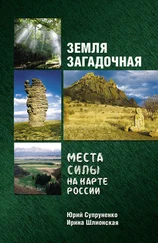
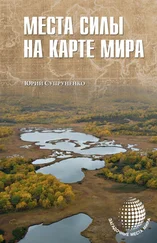
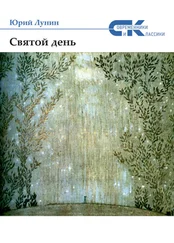
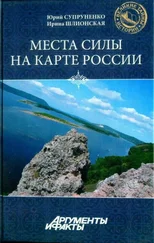
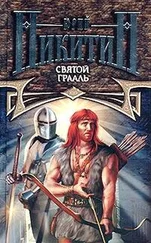

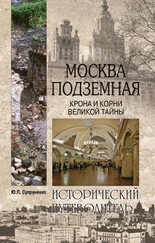
![Юрий Супруненко - Тайны Аркаима [litres]](/books/406195/yurij-suprunenko-tajny-arkaima-litres-thumb.webp)