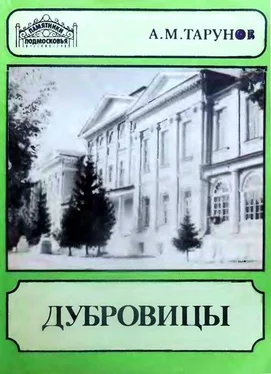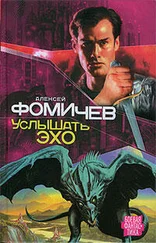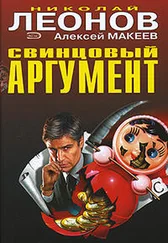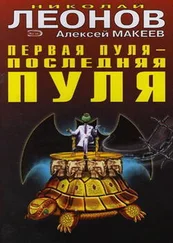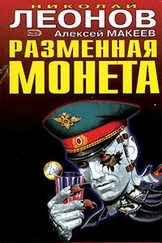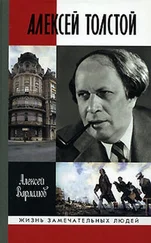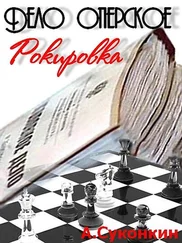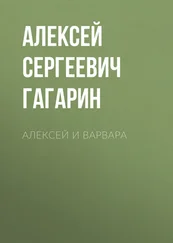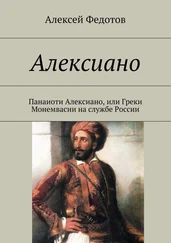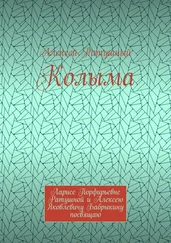Многочисленное семейство Голицыных дало целое поколение первых «русских западников». В первую очередь необходимо вспомнить о первом министре правительства царевны Софьи князе Василии Васильевиче Голицыне, горячем поклоннике всего иноземного. Не менее колоритной фигурой того времени был и двоюродный брат Василия, воспитатель юного царя Петра князь Борис Алексеевич Голицын. Стоит повнимательней приглядеться к личности последнего, и тогда, возможно, станут понятны причины появления невиданного доселе сооружения в подмосковном лесу…
Рядом с церковью – дворец с классическим фронтоном и обращенной к реке полукруглой колоннадой. Здание внешне выглядит так же, как и в первой половине XIX века при жившем тогда в Дубровицах графе Матвее Александровиче Дмитриеве-Мамонове. Судьба жестоко обошлась с этим незаурядным человеком: более половины жизни провел он под домашним арестом. И после смерти к его личности относились несправедливо. Объявленный в тридцать пять лет сумасшедшим (хотя в это верили не все), граф таким и вошел в мемуары своих состарившихся одногодков, а затем, как забавный исторический персонаж, перекочевал на страницы краеведческих изданий. И как теперь доказать, что за внешними чудачествами Матвея Александровича скрывались порой тайные помыслы и устремления, за какие шли на виселицу и на каторгу лучшие из его современников? И если даже болезненное воображение дубровицкого затворника и в самом деле довело его до потери рассудка, то и тогда не стоит забывать его благородного поступка в Отечественную войну 1812 года, когда он, молодой, полный патриотических чувств, сам собрал полк, на свои средства обмундировал его, вооружил и повел на борьбу против войск Наполеона.
…Со времени расцвета Дубровиц утекло много воды. И нынешнему посетителю не увидеть в усадьбе всего того, что было здесь в прошлом. Еще не завершена реставрация интерьеров Знаменского храма, утрачена или частично рассеяна по музеям богатая художественная коллекция и обстановка старинного дворца. Да и занимает его теперь достаточно чужеродное учреждение – Всесоюзный научно-исследовательский институт животноводства. Но ни утраты, ни малохудожественные приобретения нашего времени не нарушили все же удивительной гармонии природы и старой архитектуры. Неприметно, как и Пахра с Десной, сливается тут прошлое с настоящим.
Собирая рассыпанные по старым журнальным публикациям и запылившимся архивным делам сведения по истории этой усадьбы, автор надеется удовлетворить пытливость тех, кто уже побывал в этой усадьбе, и тех, кому свидание с Дубровицами еще предстоит.
Первое упоминание о селе Дубровицы относится к 1627 году. В Переписных книгах Перемышльской церковной десятины, объединявшей несколько десятков приходов, значится: «В Молоцком стану за боярином Иваном Васильевичем Морозовым старинная вотчина село Дубровицы на реке Пахре, усть речки Десны…»
И. В. Морозов был представителем одного из старейших боярских родов, связанных с Москвой еще с середины XIV века. Лучшие подмосковные земли более трехсот лет принадлежали этой разветвленной фамилии. Многие Морозовы на службе у московских князей и государей достигали высоких должностей, а боярин Борис Иванович Морозов был воспитателем будущего царя Алексея Михайловича, а затем и его ближайшим советником.
Неплохо складывалась карьера и его дальнего родственника, владельца Дубровиц Ивана Васильевича Морозова. В ту пору, когда в старинных документах мы находим упоминание о Дубровицах, он возглавлял Владимирский судный приказ, который занимался разбором тяжб и взысканием налогов.
Невелики были Дубровицы в 1627 году. В описи значится двор боярский, где жил сам хозяин, а также «двор коровий с деловыми людьми». Шесть крестьянских дворов пустовало. «А в селе церковь Илья Пророк деревяна клетцки, а в церкви образы и книги и свечи и на колоколнице колоколы и всякое церковное строение вотчинниково,- отметил патриарший учетчик заботу боярина,- а у церкви во дворе поп Иван Федоров, а во дворе дьячок и просвирница».
Непопулярные в народе реформы Алексея Михайловича, который во многом следовал советам Б. И. Морозова, привели в 1648 году к грозному Медному бунту. После кровавой расправы над восставшими в царском окружении рассудили так: временно удалить от Алексея Михайловича бывшего воспитателя и заменить его другим преданным человеком. Выбор царя пал на Ивана Васильевича Морозова, которому без задержки был пожалован высший придворный титул ближнего боярина.
Читать дальше