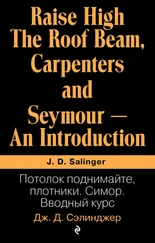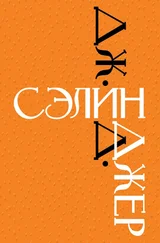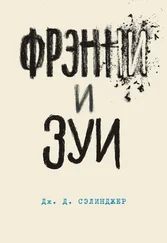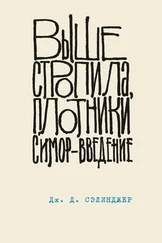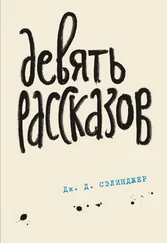* * *
Рамакришна умер в 1886 году. Его ученик Вивекананда пропагандировал учение Веданты на Западе в конце XIX века. Толстой назвал Вивекананду «самым блистательным мудрецом. Сомневаюсь, чтобы в этом веке другой человек мог подняться над этой бескорыстной, духовной медитацией». В числе приверженцев Веданты были Юнг, Ганди, Сантаяна, Генри Миллер, всю жизнь бывший ревностным поборником Веданты, Олдос Хаксли (который назвал Веданту «самыми глубокими и тонкими высказываниями о природе Абсолютной Реальности») и Джордж Харрисон, по словам которого у Веданты есть единственная цель: «осознание Бога». Харрисон также сказал: «Если Бог есть, мы должны узреть его. А если существует душа, мы должны воспринимать и постигать ее». Писатель А. Л. Бардах так обобщил представленную в Веданте концепцию ума человека в образе пьяной обезьяны, которую ужалил скорпион, а потом пожрал демон. В Веданте «тот же ум, смиренный и поставленный под контроль, становится самым надежным другом и помощником, гарантирующим человеку мир и счастье». Произведения Сэлинджера, написанные между 1952 и 1965 годом, – все более явная попытка совершить следующее: постичь Бога, узреть Бога, постичь душу, подчинить собственную душу и управлять ею, а также подчинить одолевавших читателя демонов и гарантировать мир и счастье [498].
Учение Веданты уходит корнями в Веды, древние индийские тексты на санскрите, легшие в основу буддизма и индуизма.
Веданта: «Бог – повсюду». Тедди: «И все, что она делала, это переливала одного Бога в другого…» [499]
Веданта: «Каждая душа потенциально божественна». Зуи: «Все они, все до одного – это Толстая Тётя, о которой говорил Симор… Ты этого не знала? Ты не знала этой чертовой тайны? И разве ты не знаешь – слушай же, слушай, – не знаешь, кто эта Толстая Тётя не самом деле?.. Эх, брат. Эх, брат. Это же сам Христос. Сам Христос, дружище» [500].
Веданта: «Цель – сделать очевидным, что божественность заключается в управлении природой, внешней и внутренней» [501]. Зуи: «Отречение, брат, и только отречение» [502].
Веданта: «Как только я думаю о себе как о ребенке, я хочу сохранить это дитя, защитить его, заботиться о нем – за счет других тел. Затем вы и я становимся отдельными существами» [503]. Бадди: «Незнакомый мальчишка (какой-то прохвост, которого он видел в первый раз в жизни) подошел у Уэйкеру и попросил у него велосипед, и Уэйкер ту же отдал ему машину. Конечно, и Лес, и Бесси понимали «добрые, благородные побуждения» своего сына, но все же оба осуждали его поступок со своей, вполне логичной, точки зрения. Что должен был, по их мнению, сделать Уэйкер? Лес подчеркнуто повторил это специально для Симора: надо было позволить этому мальчику «хорошенько, вволю, покататься на велосипеде – и все! Но тут Уэйкер, захлебываясь слезами, перебил отца. Нет, мальчику вовсе не хотелось «вволю покататься». Он хотел иметь свой велосипед. У этого мальчика никогда не было собственного велосипеда, а он всегда мечтал иметь свой собственный велосипед. Я взглянул ни Симора. Он вдруг заволновался» [504].
* * *
Начиная с «Над пропастью во ржи» и в дальнейшем, произведения Сэлинджера становятся все более и более «переводами» и популяризацией. Сэлинджер брал усвоенные им метафизические и религиозные идеи и находил способы их распространения, делая эти идеи яркими, забавными и привлекательными для читателей (по большей части, людей светского мышления или, по меньшей мере, не индуистами). По мере роста числа поклонников его творчества Сэлинджер писал все менее ясно, и у него возникла проблема с преодолением этого разрыва. Одной из главных причин, в силу которых он прекратил публиковать свои произведения, было то, что он стал слугой двух господ – искусства и религии. Его нетерпимость к общественной жизни Нью-Йорка. Его бегство в изоляцию. Его любовь к постоянству и монотонности. Его переживания по поводу критических нападок, напомнивших ему пребывание под огнем противника. Его ненависть к умному анализу, препарированию произведений. Его потребность в очень молодых девушках, целителях, сиделках, невинных детях, обращавших время вспять. Его гомеопатия как установление очередности оказания помощи раненным на поле боя. Его потребность в контроле – над заглавиями, запятыми, над всем. Его острая нелюбовь к прикосновениям посторонних. Его любимые (и нелюбимые) фильмы. Его «безответственная» [505]манера водить джип. Его молчание, прежде всего, в литературе, как признание невозможности когда-либо искупить вину перед мертвыми. По его собственному признанию, он был «состоянием, а не человеком» [506]. И этим состоянием, с 1945 года и до смерти Сэлинджера, был посттравматический синдром.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
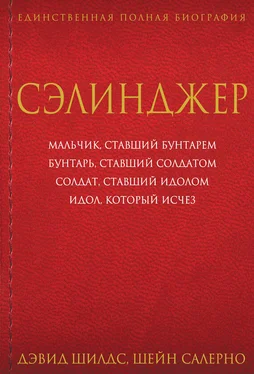

![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](/books/74234/dzherom-devid-selindzher-rannie-rasskazy-1940-1948-thumb.webp)
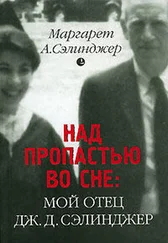

![Джером Сэлинджер - Дж. Д. Сэлинджер [litres]](/books/384574/dzherom-selindzher-dzh-d-selindzher-litres-thumb.webp)
![Бриана Шилдс - Заклинатель костей [litres]](/books/433662/briana-shilds-zaklinatel-kostej-litres-thumb.webp)